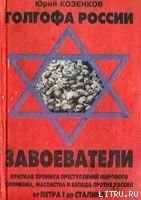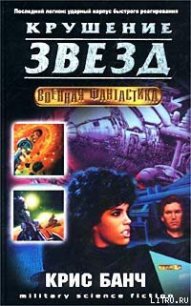«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов - Кантор Владимир Карлович (е книги TXT) 📗
4. Тема эллинства
Но так ли это? Действительно ли русская культура «проскочила» мимо античности? Вопрос спорный. Невозможно представить себе Гнедича и Жуковского без Гомера; Чаадаева, Чернышевского, Толстого без влияния Платона; Аристотеля переводили в России весь XIX век и пр. Конечно, с опозданием. Но Шпет вообще уводил проблему в несколько иную плоскость. «Философия, — писал он, — как чистое знание есть порождение античной языческой Европы, т. е. Европы в нашем узком и более точном смысле. Восточная стихия надолго оттеснила ее на задний план истории, но не могла уничтожить вовсе, а, напротив, сама впитала в себя немало от столь чуждого ей европеизма. Настал момент Возрождения наук и искусств, и Европа открыто и в полной мере стала обнаруживать себя и свое, — все, что тлело до тех пор под спудом, но не угасало ни на мгновение. Философия никогда не переставала быть философией, и средние века не менее богаты ею, чем последующее время, и в средневековой философии можно открыть все те же моменты, что и в предшествовавшее ей или следующее за ней время, — речь идет только о том, что с Возрождения опять выдвигается на первый план истории то, что было чисто европейским созданием и что было оттеснено на задний план средневековым христианским. Дело, начатое Возрождением, еще не доведено до конца. Новое время есть время завершительной борьбы между Востоком и Европой. На чью сторону склонятся весы истории?» [1114]
По сути дела Шпет возвращается к формуле Тертуллиана (150222 гг.), утверждавшего, что нет ничего общего между Афинами и Иерусалимом: «Итак, что Афины — Иерусалиму? что Академия — Церкви? что еретики — христианам? <…> Да запомнят это все, кто хотел сделать христианство и стоическим, и платоническим, и диалектическим. В любознательности нет нужды после Иисуса Христа, а в поисках истины — после Евангелия» [1115]. Тема Тертуллиана занимала умы русских мыслителей. Друг юности Шпета Лев Шестов в свой книге 1938 г. «Афины и Иерусалим» замечает, что, несмотря на попытки примирения разность и противоречие Афин и Иерусалима, религии и философии очевидны [1116]. Очевидно это было для русских мыслителей — эмигрантов, вдумывавшихся в идею надконфессионального смысла христианства. Но, скажем, католик Э. Жильсон в письме к Льву Шестову (1936 г.) заметил, что католический Рим и есть результирующая между Афинами и Иерусалимом.
Карфагенянин Тертуллиан отрицал всяческий смысл Афин. Русский же мыслитель Густав Шпет с непреклонностью раннехристианского апологета занимает тоже вполне определенную сторону, но не Иерусалима, а Афин. Именно в античной философии он видит зерно, ядро европеизма. В этом он был не одинок. В Серебряный век тема античности, дионисийского и аполлоновского начал (пришедшая, конечно, от Ницше), вдохновляла Иннокентия Анненского (переведшего при этом всего Еврипида) и Вячеслава Иванова. В том же году, когда писался его трагический «Очерк.», великий поэт Мандельштам утверждал: «Русский язык — язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загощиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ему самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения. <. > Русский номинализм, то есть представление о реальности слова, как такового, животворит дух нашего языка и связывает его с эллинской культурой не этимологически и не литературно, а через принцип внутренней свободы, одинаково присущей им обоим» [1117].
Шпет гораздо трагичнее. Эллинистического начала он не видит в современной русской культуре. Для Мандельштама христианство «превратило Элладу в Европу» [1118]. Шпет не принимает христианскую прививку к европейской истории, называя ее смесью Востока и Европы, в отличие Мандельштама, Степуна, Федотова не соглашаясь, что именно христианство сотворило Европу, сохранив античность и дав ее всем народам. Шпет писал: «Россия вошла в семью европейскую. Но вошла как сирота. Константинополь был ей крестным отцом, родного не было. В хвастливом наименовании себя третьим Римом она подчеркивала свое безотчество, но не сознавала его. Она стала христианскою, но без античной традиции (курсив мой. — В. К.) и без исторического культуропреемства. Балканские горы не дали излиться истокам древней европейской культуры на русские равнины. Тем не менее в наше время произносятся слова, будто Россия более непосредственно, чем Запад, восприняла античную культуры, так как‑де она почерпала ее прямо из Греции. Если бы это было так, то пришлось бы признать, что Россия эту культуру безжалостно загубила. Россия могла взять античную культуру прямо из Греции, но этого не сделала» [1119]. Как видим, его позиция противостояла многим весьма значительным русским поэтам и мыслителям начала ХХ века. Вряд ли бы он повторил следом за Мандельштамом: «Над нами варварское небо, и все‑таки мы эллины» [1120]. Но была в его позиции та сухая трезвость, которая уберегла его от сомнительного пути русских православных философов — грекофилов.
У нас, казалось бы, были мыслители, в отличие от Шпета, целиком посвятившие себя пропаганде античности, которые считали Россию духовной преемницей античной Греции. Я имею в виду прежде всего А. Ф. Лосева. В чем же меж ними разница? А в том, что античность казалась Шпету антитезой всего развития русской мысли. Он переживал трагедию отсутствия эллинства. Лосев же изображал античность, как часть российского наследия, прямой предшественницей сталинского тоталитаризма. Аверинцев вполне прямо и откровенно пишет о лосевском тоталитарном мышлении [1121], называя Алексея Федоровича Лосева явным антиподом Шпета. Шпет имел тех же учителей, но, отказавшись от сервильного православия, остался свободным. У Лосева было чувство, полагал Аверинцев, что «тоталитаризм пришел на ближайшее тысячелетие, скажем, так, как “темные века” пришли на смену античности» [1122]. У Шпета такого чувства не было. Поэтому мечтал он, чтобы античная свобода все же хоть когда‑нибудь пропитала русскую мысль, поэтому и сожалел, что Русь получила византийскую культуру не на языке оригинала. Можно сказать, что Владислав Ходасевич по сути дела выразил пафос намерений Шпета:
Но сложность восприятия античной культуры Русью коренилась, на мой взгляд, не только в языке — посреднике, но и в географии. Западная Европа располагалась в том самом месте, где хранились рукописи античных авторов, пусть столетиями и не востребованные: «Варварский Запад принял христианство на языке античном и сохранил его надолго. С самого начала его истории, благодаря знанию латинского языка, по крайней мере в более образованных слоях духовенства и знати, античная культура была открытою книгою для западного человека. Каждый для себя в минуты утомления новою христианскою культурою мог отдохнуть на творчестве античных предков и в минуты сомнения в ценности новой культуры мог спасти себя от отчаяния в ценности всей культуры, обратившись непосредственно к внесомненному первоисточнику. И когда настала пора всеобщего утомления, сомнения и разочарованности, всеобщее обращение к языческим предкам возродило Европу» [1123]. Чтобы обратиться к этим предкам, нужна была, однако, сохранность их наследия. Запад непосредственно (прежде всего возрожденческая Италия) вырастал на территории, наполненной сокровищами античной культуры, в контексте античной инфраструктуры (дороги, водопроводы, термы и пр.): гуманисты Возрождения прилагали немало сил, чтобы отыскивать древнеримские манускрипты, но было, где искать. В Киевской Руси, даже если б она знала греческий, вряд ли хранились бы свитки античной литературы, не прошедшие церковную цензуру византийских иерархов, слишком далеко Русь находилась от Греции. И русским варварам византийцы давали точно рассчитанную дозу образованности, только то, что варвары могли переварить. К тому же территории Древней Руси (если не считать чужого тогда Крыма) никогда не задевались древнегреческой экспансией, даже византийской. Олег прибивал свой щит «на врата Цареграда», но Византия никогда не пыталась захватить Русь.