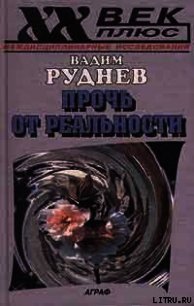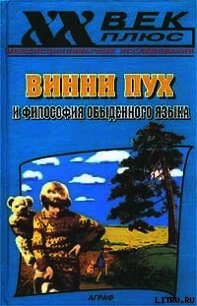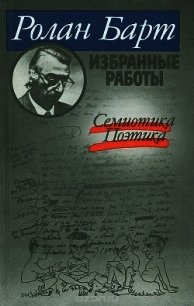Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы - Руднев Вадим (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
1. Это происходит с кем-то, кто обязательно должен обладать антропоморфным сознанием (когда событие происходит с Каштанкой или Холстомером, то они наделяются способностью к анализу, оценке и описанию).
2. Для того чтобы происходящее могло стать событием, оно должно стать для личности – носителя сознания чем-то из ряда вон выходящим, более или менее значительно меняющим его поведение в масштабе либо всей жизни, либо какой-то ее части. Событие всегда окрашено модально, то есть изменяет отношение сознания к миру. Если событие непосредственно затрагивает сферу ценностей, то плохое состояние сознания оно должно превратить в хорошее или наоборот. Событие меняет модальный оператор у высказывания, которое описывало положение дел в мире до того, как оно произошло. Событие влечет за собой другие события, так что, если модальный оператор вначале сменился с негативного на позитивный, он может вновь смениться на негативный вместе со следующим событием.
3. Событие только тогда может стать событием, когда оно описано как событие. Если человека убило молнией в лесу, а потом лес сгорел и этого человека никто не хватился, то никакого события не произошло. В сущности, событие – это в значительной степени то же самое, что и рассказ о событии, не имеющий ничего общего с физическим действием. В рассказе «После бала» слушатели узнают от Ивана Васильевича, что однажды с ним произошло событие, резко изменившее его жизнь: то, как он после бала наблюдал за наказанием солдат. Что именно было событие – то, что наказывали солдат, то, что герой наблюдал за этим, или то, что он рассказал это слушателям? Пока он не рассказал того, что с ним произошло, об этом мог так никто и не узнать, и о его душевном перевороте наблюдали бы только извне. Событие оставалось бы внутренним душевным событием Ивана Васильевича, не выведенным из его «личного языка» (private language – термин Л. Витгенштейна [Витгенштейн, 1994]) в нормальную языковую игру с окружающими. Только описание придает событию цельность, законченность и определенность. Ведь для полковника, командующего экзекуцией, никакого события не происходит, происходящее располагается для него в ряду повседневной жизни, так же как и бал.
Начиная с 20-х годов XX века в теории литературы господствует доктрина о разграничении сюжета и фабулы, где фабула – это «правильная» последовательность событий, как они протекают в физическом мире, а сюжет – это та искусственная последовательность событий, в которой располагает их автор для художественных целей и которая может не совпадать с правильной хронологической последовательностью.
Если взять житейское событие в его хронологической последовательности, мы можем условно обозначить его развертывание в виде прямой линии, где каждый последующий момент сменяет предыдущий и в свою очередь сменяется дальнейшим.
<…> события в рассказе развиваются не по прямой линии, как это имело бы место в житейском случае, а развертываются скачками. Рассказ прыгает то назад, то вперед, соединяя и сопоставляя самые отдаленные точки повествования, переходя часто от одной точки к другой, совершенно неожиданной [Выготский, 1965: 194, 199].
Исходя из сказанного, мы будем стремиться показать, что разграничение сюжета и фабулы ошибочно в том смысле, что понятию фабулы ничто не соответствует ни в реальности, ни в языке, описывающем реальность, что «простой хронологической последовательности событий» просто не существует, хотя, может быть, имеет смысл говорить о том, что существует хронологическая последовательность физических необратимых (термодинамических) процессов, но, вероятно, и она вовсе не такая простая.
Начнем с того, что далеко не каждый сюжет может быть сведен к фабуле в смысле формалистов и Выготского.
Рассмотрим сюжет новеллы Акутагавы «В чаще». В лесу находят мертвое тело самурая. Подозрение падает на разбойника. Разбойник признается в убийстве и рассказывает на следствии следующее. Привлеченный красотой жены самурая, он заманил обоих в чащу, привязал самурая к дереву и овладел женой самурая на его глазах. После этого он предложил женщине уйти с ним, на что та ответила, что один из мужчин должен умереть. Разбойник отвязал самурая и в честном поединке убил его, а женщина тем временем убежала.
Затем следует исповедь вдовы самурая. По ее словам, после того как разбойник овладел ею, он убежал. Женщина поймала на себе презрительный взгляд мужа, и тогда она решила, что они оба должны умереть. Она закалывает мужа с намерением после этого заколоть себя, но падает в обморок, а придя в себя, пугается и убегает.
Последнюю версию мы слышим из уст духа умершего самурая. После того как разбойник овладел женщиной и стал уговаривать ее уйти с ним, она поймала на себе презрительный взгляд мужа и сказала разбойнику: «Убейте его». При виде такой вероломности разбойник ударил женщину ногой, освободил самурая, женщина тем временем убежала, а самурай покончил с собой.
Ясно, что этот сюжет нельзя свести к фабуле. Событие, которое здесь описывается, – это, безусловно, одно и то же событие – насильственная смерть самурая, – где выполнены все три условия, а именно, что это произошло с кем-то антропоморфным, что оно имеет ярко выраженный модальный характер и что оно описано, и притом не один раз. Но в зависимости от условия (3), т. е. от того, кем и в каком контексте оно рассказано, меняется условие (2) – модальность.
При этом ясно, что автор не хочет сказать, что одно описание противоречит другому, напротив, смысл новеллы состоит в том, что все три свидетельства, скорее всего, являются истинными: разбойник действительно убил самурая на поединке, жена действительно заколола самурая кинжалом, и самурай действительно покончил с собой. Во всяком случае, сюжет рассказа Акутагавы нельзя свести к «простой хронологической последовательности»: вначале разбойник заманил супругов в чащу и изнасиловал жену, потом происходило неизвестно что, потом разбойника поймали, на исповеди он рассказал, что изнасиловал жену, и т. д.
Выражение «неизвестно что» лежит в другой плоскости, чем выражение «изнасиловал жену». Идея фабулы состоит в том, что все в принципе известно с самого начала. И при описании фабулы нельзя ссылаться на то, что рассказывали вдова или дух самурая, так как фабула фиксирует только то, что происходило на самом деле, а не то, что об этом рассказывали. Но то, что происходило в чаще, нельзя свести к одной версии, которую можно было бы уложить в линейную последовательность времени, а оставаясь в пределах обычной логики, нельзя представить себе, как самурай одновременно погибает на поединке с разбойником, жена закалывает его кинжалом и он тем же кинжалом закалывает себя сам.
При этом нельзя сказать, чтобы сюжет новеллы Акутагавы был чем-то исключительным. Скорее он является заострением той философии события, которую отражает искусство XX века.
Рассмотрим рассказ Борхеса «Три версии предательства Иуды». По первой версии, Иуда предал Иисуса, «дабы вынудить его объявить о своей божественности и разжечь восстание против Рима». В соответствии со второй – предательство Иуды было актом радикальной духовной аскезы. По третьей версии, вытекающей из второй, Иуда и был воплощением Бога, пожелавшего воплотиться в наиболее низком человеческом обличье, и тогда предательство Иуды-мессии было актом вуалирования тайны истинного спасителя. Здесь акцент делается не на третьем условии события (описании), так как по всем трем версиям человек по имени Иуда предал человека по имени Иисус, а на втором (модальности). В первом случае это стремление к дезавуированию, во втором – к взятию на себя наибольшего возможного греха, в третьем – наоборот, к вуалированию истинного положения вещей. Правда, во всех трех случаях Иуда у Борхеса бескорыстен, что полемически (ересиологически) заострено по отношению к канонической версии этого события.
Ясно, что и здесь простой последовательности событий нет места. Ведь слова «Иуда предал Иисуса» сами по себе не имеют значения, когда они рассматриваются изолированно от контекста их употребления. И выражение «Предатель Иуда предал Спасителя Иисуса» в онтологии Борхеса не является фабулой, так как оно не описывает инвариантного положения вещей, о которых идет речь.