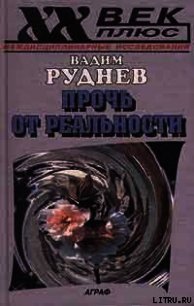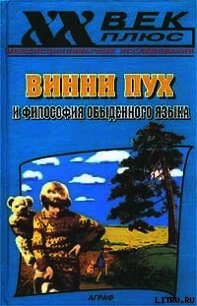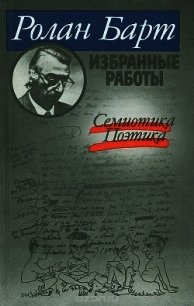Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы - Руднев Вадим (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
Семиотическое пронизывает каждодневный жизненный опыт человека, так как он в следствие своего экстракорпорального развития, повлекшего за собой развитие высших языковых функций, не может жить инстинктом. Поэтому человеку необходима семиотика еды, чтобы отличить вредное от полезного и отравленное от неотравленного. Для того чтобы сшить или купить новую одежду, которая в качестве предмета физической реальности подвержена энтропии, необходимо иметь в языке понятие одежды, чтобы была возможность «генетически» приравнять старую одежду к новой. В этом смысле общество, живущее семиотической жизнью, постоянно стремится двигаться в антиэнтропийном направлении на фоне неуклонного положительного энтропийного времени.
Энтропийная модель времени не является универсальной в истории культуры и насчитывает всего лишь около ста лет развития. На протяжении двух тысячелетий христианская культура жила в соответствии с противоположной концепцией времени, которую можно назвать эсхатологической. Наконец, самая древняя модель времени и самая жизнестойкая, насчитывающая десятки тысяч лет, – это мифологическая, циклическая модель. В мифологической модели времени не работает первый постулат Рейхенбаха – постулат необратимости.
Если же поверить пифагорейцам, то снова повторится все то же самое нумерически (буквально, тождественно), и я снова с палочкой в руке буду рассказывать вам, сидящим передо мной, и все остальное вновь придет в такое же состояние [Рейнбах. Цит. по [Лосев, 1976: 126]].
Так же циклически моделируется в мифологической картине мира история. Соответственно и в языке мифологической эпохи нет противопоставления настоящего, прошлого и будущего. Мифологическая модель мира не знает противопоставления текста и реальности. Мифологическая стадия сознания – это стадия досемиотическая. Знак здесь равен денотату, высказывание о действии – самому действию, часть – целому и т. д. В определенном смысле понятие мифа есть самоотрицающее понятие. Ибо там, где есть слово «миф», уже нет самого мифа, а там, где есть миф, нет понятия мифа, как и нет вообще никаких понятий. Текст возникает при демифологизации мышления, на стадии развертывания временного цикла в линейную последовательность, то есть на стадии эпоса, который уже в определенном смысле является текстом. Для Платона время – еще круг, но это уже один большой круг (Великий Год), «подвижный образ вечности», которая существует вне времени. Поэтому понятия текста и реальности у Платона существуют (соответственно tehne и physis), но то, что для нас является реальностью, для Платона – мир текстов, подобий идеального истинного мира, а мир идей (семиотический в нашем смысле) для него обладает свойствами истинной реальности. Развитие идей Платона в философии неоплатоников, переплетенное с иудейской динамической картиной мира (см. [Аверинцев, 1977]), дает эсхатологическую, линейную модель времени и истории, разработанную ранними христианскими авторами и прежде всего Блаженным Августином в трактате «De Civitate Dei». История, по Августину, есть противоборство двух миров: государства земного и Государства Божьего. Участь первого – разрушение, участь второго – созидание и завоевание ахронного рая. Завязка исторической драмы – Первородный Грех, ее кульминация – Страсти Христовы, а развязка и цель – Второе Пришествие и Страшный Суд. В соответствии с этим прошлое и будущее, начало и конец в средневековом представлении об истории меняются местами (ср. представление древнерусской летописи о том, что прошлое находится впереди («передние князья»), а настоящее и будущее – позади («задняя слава») [Лихачев, 1972: 286]; ср. также слова Иоанна Крестителя об Иисусе: «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня» [Иоанн, i, 15]). Очевидно, что эта картина времени полностью соответствует противопоставлению энтропийного времени информативному в естественнонаучной картине. Энтропийное время – это время града земного, время дьявола. Информативное телеологическое время – это время Града Божьего. Таким образом, истинная жизнь – это жизнь в нашем понимании семиотическая, мир идей, по Платону, а жизнь бренная – это внезнаковая энтропийная реальность, реальность иллюзорная. Истинная жизнь в эсхатологическом сознании – это подготовка к смерти. Отсюда средневековая идея о том, что жизнь – это сон, а смерть – пробуждение. Поэтому отношение к смерти в рамках эсхатологической модели глубоко положительное, а бессмертие на этом свете – самое мучительное наказание (Агасфер, Мельмот, Демон). Ю. Н. Тынянов говорил, что в России страх смерти как культурное явление ввели Толстой и Тургенев.
Действительно, культурного страха смерти еще в пушкинскую эпоху не было, достаточно вспомнить веселую «холерную» переписку Пушкина в 1830 году.
Хронологически начало «страха смерти» совпадает с деэсхатологизацией культуры, начавшейся в середине xix века в прямой связи с естественнонаучным и философским позитивизмом и, в конечном счете, с открытием второго закона термодинамики, который был сформулирован Кельвином и Клаузиусом в 1850 году и положил начало энтропийной модели времени [Уитроу, 1964: 353].
Деэсхатологизация времени была процессом отнюдь не долгим, так как культуре противопоказан страх смерти. Поэтому уже с конца xix века в философской мысли начинается мощное антиэнтропийное движение, направленное на то, чтобы сомкнуть острие «стрелы времени», неумолимо движущейся к максимальной энтропии, с ее началом. Это движение развивалось по двум направлениям, одно из которых можно назвать ремифологизацией, а другое – реэсхатологизацией.
Уже Людвиг Больцман в «Лекциях по теории газов» формулирует гипотезу возникновения мира, в соответствии с которой Вселенная возникла в результате чрезвычайно маловероятного события. Именно поэтому энтропия в начале развития Вселенной, по мнению Больцмана, была низкой. С этого момента она увеличивается до тех пор, пока это не приведет к тепловой смерти Вселенной. Но этот процесс, по Больцману, является лишь очень вероятным, но не достоверным. Существует мизерная вероятность того, что элементы Вселенной вновь распределятся таким же образом, как это было в ее начале, что приведет к флуктуационному взрыву и мир повторит свое развитие. Эта вероятность равна вероятности того, что в один и тот же день все жители одного города покончат жизнь самоубийством [Больцман, 1956: 523–526].
Гипотеза Больцмана является вероятностной, в соответствии с ней возвращение мира практически не произойдет никогда. В менее же строгих построениях мыслителей начала XX века идея возвращения становится поистине навязчивой. Она пронизывает философию жизни Ф. Ницше, аналитическую психологию К. Г. Юнга и практически всю философию истории века – построения О. Шпенглера, Н. А. Бердяева, И. Хейзинги, А. Дж. Тойнби, М. Элиаде.
Одновременно с ремифологизацией начинается и реэсхатологизация, для которой характерно совмещение христианского понимания мира с его естественнонаучной картиной. В конце xix века это движение связано в первую очередь с именем Н. Ф. Федорова, основной целью «философии общего дела» которого было антиэнтропийное достижение земного рая при помощи физического воскрешения мертвых. Характерно, что Федоров, апеллируя к первому началу термодинамики (закону сохранения энергии), совершенно игнорировал второе. В XX веке наиболее яркий представитель движения реэсхатологизации Пьер Тейяр де Шарден, развивающий концепцию прогрессивного антиэнтропийного развития мира, направленного к так называемой точке Омега, к рождению Бога, единого самосозидающего интеллекта.
По-видимому, культуре вообще не свойственно быть атеистической. Атеизм в культуре часто выступает как квазиатеизм. Так, А. Дж. Тойнби показал, что концепция исторического материализма является лишь разновидностью христианского учения, идея коммунизма – вариантом эсхатологического второго пришествия. По-видимому, так называемые материализм и идеализм суть дополнительные описания одного объекта. Говоря обобщенно, точка зрения идеализма совпадает с точкой зрения текста, а точка зрения материализма – с точкой зрения реальности (ср. вывод Л. Витгенштейна о том, что идеализм и материализм суть одно, если они строго продуманы [Витгенштейн, 1958: 5–64]).