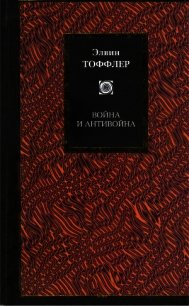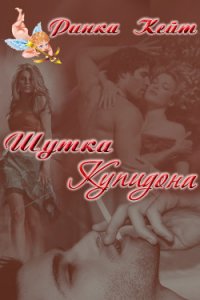Шок будущего - Тоффлер Элвин (электронная книга .txt) 📗
Президент Никсон, по — прежнему обеспокоенный кризисом целей, попробовал третью линию.
Он заявил: «Настало время, чтобы мы сознательно и систематично обратились к вопросу, государством какого рода мы хотим быть…» Таким образом, он затронул самый существенный вопрос. Но снова метод, выбранный для ответа, оказался неадекватным.
«Сегодня я приказал создать в Белом доме Исследовательский штаб по национальным целям, — объявил президент. — Это будет небольшой, чрезвычайно специализированный штаб, состоящий из экспертов в области сбора… и обработки данных, касающихся социальных нужд, и проектирования социальных тенденций» [354].
Такой штаб, находящийся от президента на расстоянии крика, мог бы быть чрезвычайно полезным в сборе предлагаемых целей, в урегулировании (хотя бы на бумаге) конфликтов между службами, в предложении новых приоритетов. Укомплектованный замечательными представителями социальных наук и футурологами, он мог бы оправдать свое существование, не сделав ничего, но заставив высокие должностные лица задаться вопросом об их основных целях.
Однако даже этот шаг, как и два предыдущих, несет отпечаток технократического менталитета. Ведь он также обходит стороной несущую политическую нагрузку суть проблемы. Как должны определяться предпочтительные будущие? И кем? Кто должен устанавливать цели для будущего?
За всеми подобными усилиями стоит представление, что национальные (и в развитии — местные) цели общества на будущее должны формулироваться наверху. Эта технократическая предпосылка прекрасно отражает старые бюрократические формы организации, в которой линия и персонал были разделены, в которой жесткие, недемократические иерархии отделяли лидера от ведомого, управляющего от управляемого, планировщика от исполнителя плана.
Однако реальные в отличие от бойко вербализованных цели любого общества на пути к сверхиндустриализму уже слишком сложны, слишком быстротечны и в своем достижении слишком зависимы от усердного участия управляемых, чтобы они были понятны и легко определимы. Мы не можем надеяться обуздать неудержимые силы перемен, собирая за кофе компанию стариков, чтобы они установили для нас цели, или перекладывая задачу на «чрезвычайно специализированный штаб». Нужен революционно новый подход к установлению целей.
Едва ли этот подход появится у тех, кто имитирует революцию. Одна радикальная группа, видящая все проблемы как манифестацию «максимизации прибылей», демонстрирует, во всей своей невинности, такой же узкий экономоцентризм, что и технократы. Другая надеется волей — неволей погрузить нас назад в доиндустриальное прошлое. Еще одна понимает революцию исключительно в субъективных и психологических терминах. Ни одна из этих групп не способна продвинуть нас к посттехнократическим формам управления переменами.
Привлекая внимание к растущей неспособности технократов и эксплицитно бросая вызов не только средствам, но и самим целям индустриального общества, сегодняшние молодые радикалы оказывают нам всем большую услугу. Но они знают о том, как справиться с кризисом целей, не больше, чем технократы, которых они презирают. Совсем как господа Эйзенхауэр, Джонсон и Никсон, они явно не способны представить какой — либо позитивный образ будущего, достойный того, чтобы за него бороться.
Так, Тодд Гитлин, молодой американский радикал и бывший президент общества «Студенты за демократию», отмечает, что, хотя «ориентация на будущее является отличительным признаком любого революционного — и в данном отношении либерального — движения последних полутора столетий», новые левые страдают «неверием в будущее». Перечислив все очевидные причины, почему левое движение до сих пор не выдвинуло ясной концепции будущего, он лаконично признается: «Мы оказались неспособными сформулировать будущее» [355].
Другой теоретик из новых левых, как пушинка, кружащий над проблемой, убеждает своих последователей соединить будущее с настоящим, фактически живя сегодня стилем жизни завтрашнего дня. До сих пор это приводило к жалкой шараде — «свободным обществам», кооперативам, до — индустриальным коммунам, немногие из которых имеют что — либо общее с будущим, но многие из которых страстно привержены прошлому.
Нельзя без иронии относиться к тому, что некоторые (хотя едва ли все) сегодняшние молодые радикалы разделяют с технократами черту опасного элитизма. Принижая бюрократию и требуя «демократии участия», они сами часто пытаются манипулировать теми самыми группами рабочих, негров и студентов, от имени которых требуют участия.
Рабочие массы в высокотехнологичных обществах полностью индифферентны к призывам к политической революции, нацеленной на замену одной формы владения собственностью на другую. Для большинства людей рост изобилия означает лучшее, а не худшее существование, и они смотрят на свою весьма презираемую «жизнь пригородного среднего класса» скорее как на осуществление, чем как на лишение.
Столкнувшись с упрямой реальностью, недемократичные элементы в среде новых левых совершают скачок к маркузианскому выводу, что слишком буржуазны, слишком развращены и испорчены Мэдисон — авеню, чтобы знать, что для них хорошо. Значит, революционная элита должна установить более гуманное и демократическое будущее, даже если это означало бы запихнуть его в глотку тем, кто слишком глуп, чтобы понимать собственный интерес. Короче говоря, цели общества должны быть установлены элитой. Технократ и антитехнократ на поверку часто оказываются братьями по элитизму.
Однако системы формулирования целей, основанные на элитистских предпосылках, просто больше не являются «эффективными». В стремлении установить контроль над силами перемен они становятся все менее продуктивными. Ведь при сверхиндустриализме демократия становится не политической роскошью, а первейшей необходимостью. Демократические политические формы возникли на Западе не потому, что несколько гениев захотели, чтобы они были, и не потому, что человек проявил «неутолимый инстинкт свободы». Они возникли из — за исторического толчка к социальной дифференциации и системам, обладающим большей скоростью, которых требовала чувствительная социальная обратная связь. В сложных дифференцированных обществах огромные количества информации должны еще быстрее течь между официальными организациями и субкультурами, которые образуют целое, и между слоями и подструктурами внутри них. Политическая демократия, вовлекая все больше и больше людей в принятие социальных решений, облегчает обратную связь. И это именно та обратная связь, которая существенна для контроля. Чтобы взять на себя контроль над ускоренными переменами, нам понадобятся еще более передовые — и более демократичные — механизмы обратной связи.
Однако технократ, по — прежнему мысля в терминах верха — низа, часто строит планы, не организуя адекватной и мгновенной обратной связи с нужной областью, так что он редко знает, насколько хорошо работают его планы. Когда он все же организует обратную связь, то, о чем он обычно спрашивает и что получает от нее, в значительной мере касается экономики и неадекватно в социальном, психологическом или культурном отношении. Хуже того, он составляет эти планы, недостаточно принимая во внимание быстро меняющиеся потребности и желания тех, чье участие требуется, чтобы сделать их успешными. Он берет на себя право устанавливать социальные цели самостоятельно или слепо принимает их от вышестоящей власти.
Он не способен признать, что более быстрый темп перемен требует — и создает — новый вид информационной системы в обществе: скорее виток, чем лестницу. Информация должна пульсировать в этом витке со все большей скоростью, и выходной сигнал одной группы становится входным сигналом для многих других, так что ни одна группа, каким бы политическим потенциалом ни обладала с виду, не может независимо устанавливать цели для целого.
В то время как количество социальных компонентов увеличивается, а перемены сотрясают и дестабилизируют всю систему, разрушительная сила подгрупп чудовищно возрастает. По словам У. Росса Эшби, блестящего кибернетика, существует математически доказуемый закон такого эффекта: «когда вся система состоит из ряда подсистем, та, которая стремится доминировать, наименее стабильна» [356].