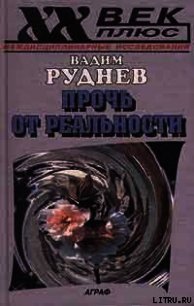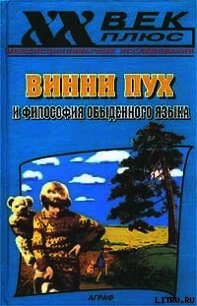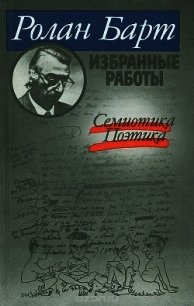Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы - Руднев Вадим (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
Как соотносится семиотика смысла и денотата с теорией нарративных модальностей, впервые предложенной чешским филологом Любомиром Долежелом [Doležel, 1979] и дополненной нами в книгах [Руднев, 1996, 2000]? Первоначальными фундаментальными модальностями маленького ребенка являются аксиологическая (ее логическую теорию разработал советский логик А. А. Ивин [Ивин, 1976]) и деонтическая модальности нормы (логико-философскую теорию норм разработал Георг фон Вригт [Вригт, 1986]). Примитивная аксиология реализуется на оральной позиции, потом она сменяется мужской отцовской деонтикой на анальной стадии (на которой фиксируется обсессия) и вновь сменяется более зрелой аксиологией на фаллической стадии (на которой фиксируется истерия – подробно см. [Руднев, 2007]). По остроумному и глубокому замечанию А. И. Сосланда, высказанному в той же устной беседе, сфера аксиологии соотносится со сферой смыслов, а сфера деонтики, норм, – со сферой денотатов. Как это понимать? Желание, гедонизм, разделение всего на хорошее и плохое – представляется более фантазийным и менее опирающимся на предметно-денотативную область, а нормы – то, что должно, разрешено и запрещено, – опирается прямо на денотативную сферу. Получается, что обсессивные более склонны к денотативной сфере, более заземлены, а так оно и есть на самое деле; истерики же более склонны к фантазии, к сфере чистого смысла, что тоже соответствует даже обыденному представлению об истерике как о фантазере и вруне (барон Мюнхгаузен, Хлестаков). А что происходит при шизофрении? Мы не знаем этого. Мы можем, повторяем, говорить только о репрезентативной семиотической сфере, а не о самой шизофрении. Все в той же беседе Александр Сосланд критиковал меня за то, что я, говоря о «природе психической патологии», говорю на самом деле о репрезентации. Потому что семиотическо-вербальное – это только поверхность, а природа – это природа аффекта. Тогда же он сказал, что в основе шизофрении, по его мнению, лежит не потеря денотативной сферы, а всеобъемлющий страх, бинсвангеровский Ужас ужасного [Бинсвангер, 1999a] (подробнее см. ниже). Мой критик находился по отношению ко мне в той же диалогической позиции, в которой находился Дарвин в его полемике с Уильямом Джеймсом. Напомним вкратце, в чем там было дело.
Дарвин (в работе «О выражении эмоций у обезьяны и человека») считал, что эмоция первична, а язык вторичен. Уильям Джеймс считал, что язык (там шла речь о языке тела, о жестах и мимике, но это все равно невербальная семиотика) первичен, а эмоция, аффект является реакцией на языковой раздражитель. В отличие от Дарвина Джеймс исходил из диалогической модели языка. По Дарвину ситуация такая: «Я испытываю боль и потом уже кричу: «Ай, как больно!» Или вижу что-то приятное, и у меня появляется счастливый смех или слова «Ах, как хорошо!». Джеймс считал – и я с ним согласен, – что ситуацию надо рассматривать более широко. Сначала я испытываю какой-то семиотический стимул, потом появляется эмоциональная реакция. Мне говорят: «Ты больше ни на что не способен». Мне делается душевно больно. Что здесь первично? Здесь первичен языковой стимул, слова о том, что «я – плохой». Я реагирую депрессивно на слова. Но это могут быть и не слова. Это может быть не вербальный, но все равно семиотический стимул. Я увидел раздавленную кошку, и мне сделалось тоскливо. «Раздавленная кошка» – это языковой стимул. Мне сама реальность сказала: «Ты видишь раздавленную кошку». Или просто светит солнышко, и я улыбаюсь. Я получаю сообщение от реальности: «Какая хорошая погода» – в ответ изменяется моя эмоция. Это соответствует гипотезе лингвистической относительности Э. Сэпира, Б. Л. Уорфа: не реальность строит язык, но язык строит реальность. Язык первичен. Но он первичен в прагматическом смысле. В онтологическом смысле между языком и реальностью, между речью и эмоцией существует «принципиальная координация» (выражение Эрнста Маха, роль которого в формировании современного мышления мы во многом недооцениваем).
Но предположим, что наш оппонент прав, и главное в шизофрении – не утрата денотативной сферы, а страх, тревога, вообще аффект. С целью выяснить это мы выбрали три концепции шизофрении (обзор психотерапевтических подходов к шизофрении см. в статье [Холмогорова, 1998]): концепцию Людвига Бинсвангера, основателя daseins-анализа, и двух психоаналитиков – Отто Фенихеля (главу о шизофрении из его классической книги 1940-х годов «Психоаналитическая теория неврозов») и современного финского психоаналитика Вейкко Тэхкэ (главу о шизофрении из книги «Психика и ее лечение»).
5. ЭУГЕН БЛЕЙЛЕР
Эуген Блейлер, который ввел в культуру XX века сам термин «шизофрения», был директором знаменитой клиники для психически больных Бургхельцли в Цюрихе. Во многом благодаря тому, что под его началом работал молодой Юнг, между психиатрическим Цюрихом и психоаналитической Веной завязались тесные контакты (см. подробнее [Эткинд, 1994]), и Блейлер испытал на себе определенное влияние психоанализа (например, он, так же как и Фрейд, считал, что галлюцинации и бред суть исполнения желаний); однако этот замечательный психиатр во многом сохранил свою уникальную позицию в учении о шизофрении, некоторые аспекты которой мы изложим по его «Руководству по психиатрии», впервые изданному в 1921 году и выдержавшему 15 переизданий, из которых пять вышло на русском языке; последний репринт 1993 года, на который мы и будем ссылаться. Для Блейлера шизофрения это, прежде всего, расстройство ассоциаций – характерно, что с самого начала главы о шизофрении Блейлер начинает говорить о языке, точнее, о речи шизофреников.
Нормальные сочетания идей теряют свою прочность, их место занимают всякие другие. Следующие друг за другом звенья могут, таким образом, не иметь никакого отношения одно к другому. <…>
«Желуди // и это называется по-французски Au Maltraitage / – табак (я тебя так хорошо видел.) // Если на каждой линии что-нибудь написано, тогда хорошо! «Теперь ischt albi elfi grad. Другой [8]Hü. Hü. Hüst umme nö hä! – // Союз каторжных: Burghölzli (пациент называет больницу, где он, очевидно, содержится «союзом каторжных», то есть тюрьмой. – В. Р.) —// Isch nänig à pres le Manger (первая половина фразы немецкая, вторая французская – В. Р.).
В этом примере знак // обозначает места, где ход мыслей совершенно прерывается; может быть, это происходит и в других местах. Он поэтому в целом становится нелогичным и непонятным. Однако и формальная связь нарушена. Французский и немецкий диалект и итальянско-немецкий язык перемешиваются без видимых оснований. Больной слишком хорошо знает французский язык, так что нельзя считать ошибки во французском правописании описками; они соответствуют крушению всего мышления [Блейлер, 1993: 305].
Далее Блейлер пишет:
Относительно последовательного хода мышления <…> «Брут был итальянец», где вместо древнего периода все отнесено к новому; или: испытываете ли вы огорчение?: – «Нет» – Тяжело вам? – «Да, железо тяжело». Слово «тяжело» вдруг употреблено в физическом смысле, истинное соотношение не принято во внимание. Таким образом, мышление и способ выражения приобретают чудаковатый характер (Verschroben – шизофреническая чудаковатость. – В. Р.) [Блейлер: 306].
Далее Блейлер пишет о шизофреническом символе (М. Е. Бурно сказал бы – «эмблема» [Бурно 2005, 2006]), употребляя этот термин в психоаналитическом смысле:
Частый случай замещений (словечко из фрейдовского «Толкования сновидений» [Фрейд, 1991] – В. Р.) представляет символ, играющий большую роль в dementia praecox: больной, сам того не замечая, ставит его на место первоначального понятия; он видит огонь, его жгут. И эти вещи, которые для здорового представляют символ любовных мыслей, он галлюцинирует, как реальность. <…> Вследствие отсутствия цели мышление с такой легкостью сбивается на побочную ассоциацию, что иногда руководящими моментами становятся одни звукоподражания. <…> Из-за всех этих расстройств мышление становится нелогичным, неясным, и даже разлаженым, бессвязным. <…> Когда идеи, между собой несвязанные, образуют всевозможные сочетания, результаты всегда получаются неверные [9]. [Блейлер: 307–308].