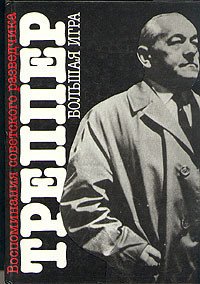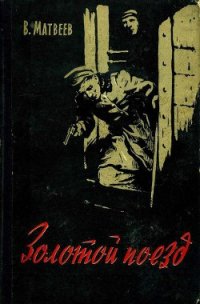Как далеко до завтрашнего дня - Моисеев Никита Николаевич (читать полную версию книги .TXT) 📗
Но действительность внесла свои коррективы. Началась ПЕРЕСТРОЙКА, радостно встреченная большинством населения и особенно интеллигенцией, мало понимавшей в смысле происходящего. В этой новой обстановке, каждый гражданин должен был определить свое место в этом процессе. Я написал длинное письмо М.С. Горбачёву. В нем было три утверждения. Первое – необходимая либерализация экономики должна пройти стадию «развитого госкапитализма», когда будут разрушены монополии отраслей и возникнут корпорации с государственным капиталом, способные к конкурентной борьбе на рынке, причем международном. Второе – должны быть легализированы все формы собственности на землю, но под контролем «земельного суда», как важнейшего инструмента гражданского общества, исключающим возможность деградации земли – высшей ценности человечества. И третье – главное богатство и главное завоевание «социализма» – это грамотное население, тот интеллектуальный потенциал, которым мы теперь обладаем. Необходимо найти способы его сохранения и рационального использования – это ключ к решению и экономических и социальных проблем. Только это может помочь утвердится высшим технологиям, а следовательно и обеспечить сохранение Союза в клубе промышленно – развитых держав.
Реализация подобных тезисов предполагала новый уровень государственности – без обшегосударственных программ, без воли и энергии всей страны, ни один из этих вопросов быть решенным не может! Из подобных соображений и должна строится вся стратегия необходимых преобразований нашего общества. Преобразований, которые уже давно назрели, без которых наша Великая Страна может превратиться в мировое захолустье. Я стоял на позициях весьма далеких от тех, которые занимали люди, позднее назвавшие себя демократами, как и от позиции той группы партийных деятелей, которые открыли процесс перестройки.
Несмотря на то, что я передал конверт в приемную генсека, Михаил Сергеевич, когда через пару лет мне довелось с ним разговаривать, мне сказал, что такого письма он не получал. Мне нет оснований ему не верить. «Аппарат, как мне сказал однажды М.С.Горбачёв, есть аппарат!»
Я не делал тайны из своих суждений, старался их разъяснять, выступал с докладами и пытался в статьях рассказывать о своей позиции, которая, чем дальше, тем всё заметнее отличалась, как от официального курса, так и от того, что тогда было модным, от того, что говорили и писали «прорабы перестройки», начисто отвергавшие идею державности. Я очень рад, что меня к ним не причисляли.
Физико-технический институт, где я состоял профессором уже более 30 лет, меня выдвинул в депутаты Верховного Совета СССР. Моя кандидатура была поддержана Московсим Лесо-техническим институтом и ещё рядом организаций Мытищинского избирательного округа. На большом собрании я подробно изложил свою позицию, свои взгляды на перестройку и.... отказался баллотироваться в депутаты. Мне было совершенно ясно, что я не могу заниматься политикой ни по здоровью, ни по возрасту, и главное – по характеру мышления. Я к ней органически не приспособлен.
Я не обладаю способностями нужными политику. Верю тому, что люди говорят, не умею разбираться в хитросплетении личных интересов, придумывать ходы, которые бы устраивали свою партию и нейтрализовали других и т.д. Одним словом, я не умею делать всего того, что должен уметь политик, стремящийся обеспечить достижение своей цели. Я также не могу принадлежать к какой либо партии – могу лишь сочувствовать, но не больше. Разделять какие то взгляды, той или другой группы людей, но заведомо не все. И моя жена меня поддержала в моих решениях – она даже была более активной в моих утверждениях чем я сам.
По этим же причинам я не стал сдавать партбилет, когда начался массовый выход из КПСС. Я вступал на фронте в очень тяжелое время, вступал вместе с теми кто защищал страну от фашизма. Получением партбилета я подчеркивал свою жизненную позицию, причем не партийную, а русскую. И никогда я не был «шибко партийным» и всегда имел собственную позицию и всячески избегал политической и партийной деятельности. Вот и теперь я не считаю возможным порочить свое прошлое в угоду тем или иным политическим или партийным соображениям. Что было, то было. И пусть мой партбилет в тех рваных корочках, на которых написано еще ВКПБ, и которые мне подарил подполковник Фисун в Синявинских болотах, останется в моем письменном столе.
Когда был первый съезд свободно выбранных Советов, мы с женой были в подмосковном санатории Десна – это кажется последний раз в жизни, когда мы имели возможность купить путевки в санаторий и провести четыре недели под наблюдением врачей. Теперь санатории доступны только продавцам в ларьках или, быть может, еще и шахтерам, если им во-время платят зарплату. В тот год мы много гуляли и еще больше смотрели телевизор. Первый съезд без купюр и без единогласного голосования. Это было так ново, что даже не верилось в то, что так и происходит сейчас в Кремле. Я смотрел во все глаза. Мне было всё страшно интересно и...очень грустно за тех кто с чистым сердцем шёл в политику, надеясь сделать полезное для своей страны.
Я видел беспомощность доброго идеалиста и бесстрашного человека Андрея Сахарова, который говорил улюлюкующим мерзавцам, то, что у него было на сердце, о чем он думал долгие годы остракизма, ссылок, унижений. То, о чем думало огромное большинство граждан нашей страны. Видел я и злого, отвратительного Ландсбергиса, которого все считали интеллигентом только потому, что он был знатоком музыки и других людей, которые по непонятным мне причинам стали народными избранниками и вылезали на трибуны, просто так, для того чтобы показаться, без идей, без понимания настоящего и без мыслей о будущем. Может быть лишь для того, чтобы продемонстрировать свою подлую душу. Меня угнетало и то, что я не видел стержня, идеи, ради которой всё происходит там в Кремле. Неужели люди, которые произносили слова «социалистический выбор», так и не поняли, что за всем этим стоит. Утешал меня лишь мой собственный выбор: слава Богу, что меня нет в зале! А как легко я там мог бы быть! И что бы я тогда чувствовал?
И кем бы я там мог бы стать – как Сахаров, в роли ещё одного распятого? На эту роль я не был способен. А, может быть молчаливым большинством? Мне казалось, что я представляю некоторые фрагменты такой программы целенапрвленного развития общества, его постепенной либерализации, которая позволила бы избежать революции, взрыва национализма и распада Союза – главное что меня страшило. Повторю – я всегда был непримеримым оппортунистом и больше всего боялся стихии революции. Даже в молодости. Но можно ли сейчас убедить, тех в кремлевском зале, что перестройка реальна и может обойтись без крови и горя, к которому нас ведёт толпа, ничего не понимающих народных избранников.
Опереточный путч
Августовский путч меня застал в Переславле-Залесском. Я туда поехал вместе с, гостившем в Москве, моим старым знакомцем, гражданином Франции Георгием Николаевичем Корсаковым. Он родился в Париже в 21-ом году. Так что мы были почти ровесники.
Познакомился я с Георгием Николаевичем во второй половине 60-х годов в Бордо на конференции «Кибернетика и жизнь», организованной Международным институтом жизни. Познакомил нас его президент профессор Морис Маруа, добрый и бескорыстный человек, что среди французов встречается не часто. Корсаков был директором патентного департамента компьютерной фирмы Хонивелл-Бюль и всегда был готов мне помочь, когда я бывал в Париже по своими компьютерным делам.
Но подружился я с ним в Москве, когда он однажды приехал сюда по своим служебным обязанностям. Мы сидели у меня дома и ужинали и тут он произнес фразу, которая совершенно изменила моё к нему отношение. А сказал он примерно следующее:"То, что внук адмирала Корсакова, чьим именем назван город на Сахалине, должен жить в этой самой Франции, а не у себя дома – я вам прощаю. То, что наше курское (или орловское – точно не помню) имение, которое славилось, как образцовое и сверхдоходное хозяйство, превратилось черт знает во что, неспособное прокомить даже тех, кто там работает – я вам тоже прощаю. Но то, что со мной начинают вежливо разговаривать в Национале (или Метрополе – я не помню в какой госиннице он тогда жил), только после того, как я покажу им французский паспорт – этого я вам никогда не прощу". Я этого тоже никогда не мог простить Советской власти. Исчезновение чувства собственного достоинства русского человека, и не только русского, а гражданина России, одно из самых мерзких преступлений большевизма и источник неисчислимых бед. Вот почему мы с Корсаковым и стали друзьями: по самому главному вопросу об отношении к России, о самосознании русского человека и необходимости вернуть ему чувство самоуважении, мы были единомышленниками.