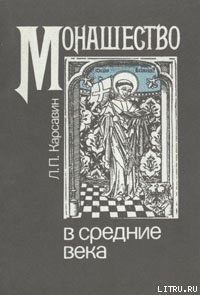История политических учений. Первая часть. Древний мир и Средние века - Чичерин Борис Николаевич (бесплатные серии книг txt) 📗
То же противоречие оказывается и в теоретической области, в приложении разума к толкованию истин веры. Протестантизм и здесь отверг посредничество церкви, всякое человеческое толкование он считал необязательным для верующих. «Что говоришь ты, Эразм? — писал последнему Лютер. — Недостаточно подчинить разум Писанию? Ужели подчинять его и постановлениям церкви? Что может она предписать, что бы не было постановлено Писанием? И где же остается свобода и власть судить этих законодателей? Что это за новая религия и новое уничижение, что ты своим примером отнимаешь у нас право судить постановления людей и без рассуждения подчиняешь нас людям?» [185] При таком отрицании церковного толкования оставался, следовательно, личный разум как источник познания истины. «Смотри, — пишет Лютер в другом месте, — и не допускай, чтобы какое бы то ни было существо на земле, даже если бы то был ангел с небес, получило для тебя такое значение, чтобы оно могло отвлечь тебя против совести от учения, которое ты признаешь и уважаешь, как божественное» [186]. Однако и разум освобождался только в низшей области; и для него оставалась святыня, которой он не смел коснуться, — Св. Писание. Здесь, по учению реформаторов, не допускаются уже критика и толкование. Это считается святотатством, и разум, который посягает на такое дело, осуждается безусловно. «Если хотят таким образом обходиться с нашею верою, — пишет Лютер против новых пророков, — т. е. сперва вносить в Писание свое собственное суждение, а потом сообразно с этим направлять его смысл и смотреть на то, что кажется черни и общему мнению, то из веры не останется ни единой статьи. Ибо нет ни одной, которая бы не была поставлена Богом в Писании выше разума». Поэтому Лютер называет мысль наложницею дьявола, которая умеет только ругать и оскорблять все, что Бог говорит и делает [187]. Но спрашивается: если отвергается авторитет церкви, то что же остается, кроме личного мнения и собственного толкования каждого? На каком основании обязан я без рассуждения принимать известные книги за непреложную истину? Протестантизм неизбежно страдал этим внутренним противоречием: с одной стороны, он провозглашал свободу критики и ставил личное убеждение выше всякого авторитета; с другой стороны, он должен был остановиться на каком-нибудь общем, признанном всеми, не подлежащем критике учении, ибо иначе не было возможности остаться в пределах христианства и создать новую религиозную форму. Поэтому протестанты непоследовательно объявили Св. Писание не подлежащим критике. Затем и само личное толкование Писания было устранено. Учение было формулировано, приведено в систему и превратилось в догму, обязательную для всех членов новой церкви. Через это протестантизм сделался таким же официально принятым, неизменным церковным законом, как и католицизм, но с гораздо меньшим основанием. В церквах, которые держатся исторического предания, восходящего к самому Христу, догматы устанавливаются не иначе, как совокупностью церкви или представителями ее, вселенскими соборами, которые считаются вдохновенными свыше, а потому могут делать положения, обязательные для всех лиц и времен. В протестантизме же, который исходил из личного начала, догматы могли устанавливаться единственно как соглашение верующих. Здесь закон должен был рождаться из свободы. Но соглашение никогда не может иметь характера непреложной истины, оно не связывает совесть. Это дело временное, в котором вполне уместны разномыслия и перемены. Следовательно, возведение известного способа понимания Св. Писания на степень обязательной догмы могло быть только непоследовательным отступлением от собственных начал.
Эта непоследовательность доходила до крайних пределов. Протестанты так живо чувствовали недостаточность одного личного начала для создания новой религиозной формы, что, выступая во имя свободы совести, они вместе с тем вполне отрицали самую эту свободу. Пока еще протестантизм не был формулирован в догму и не сделался господствующею церковью в некоторых странах, он, как вообще все новые секты, требовал для себя простора. Лютер на первых порах восстал против наказания еретиков. «Никто не должен быть принуждаем к вере, — писал он, — но всякий призывается. Кто должен прийти, того Бог сам подвинет призывом; если же Он не призывает человека, что сделаешь ты со своими усилиями?» [188] В другом месте он писал: «Еретиков надобно побуждать не огнем, а Писанием, как делали прежние отцы церкви. Если бы все дело состояло в том, чтобы победить еретиков огнем, то палачи были бы ученейшими учителями в мире» [189]. Но проповедь анабаптистов скоро привела Лютера к другим убеждениям. Он стал допускать вмешательство власти в дела веры. Это вмешательство, по его мнению, может иметь место в четырех случаях: 1) когда проповедуются возмутительные учения, например что не следует повиноваться властям или что все у людей должно быть общее; 2) когда отрицается догмат, основанный на ясном тексте Св. Писания и признанный всеми: тогда виновный наказывается как богохульник, и ему возбраняются не только поучение, но даже и явное выражение своих мнений, хотя внутри себя он может думать, что ему угодно; 3) в случае раздоров насчет догматов в каком-либо городе, стране или приходе, например между лютеранами и католиками: здесь власть должна рассмотреть, которая сторона не согласна с Евангелием, и ту заставить молчать; 4) когда исповедующие одно учение спорят насчет второстепенных вопросов: тогда власть должна предписать молчание обеим сторонам [190]. Очевидно, что здесь уже о свободе совести нет речи. Другие протестанты шли еще далее. Известно, что Кальвин сжег Сервета, и Беза в особом сочинении оправдывал этот поступок [191]. Так же, как в средние века, ересь объявлялась преступлением против Бога, и притом преступлением величайшим, достойным высшего наказания. Без сомнения, тут было страшное противоречие. Во имя чего могли протестанты считать себя вправе связывать таким образом чужую совесть и наказывать за свободную мысль? Если Лютеру и Кальвину принадлежало право толковать Св. Писание в противность установившемуся веками преданию, то почему же не всякому другому? Но безграничная свобода совести и мысли могла вести к учениям, не согласным ни с христианством, ни даже с каким бы то ни было общественным порядком, а потому учители протестантизма сочли нужным остановиться на полдороге, отрицая у других то начало, на котором они сами стояли. Из всего этого ясно, что протестантизм как учение не отличался последовательностью. Взять основы религии, существовавшей полторы тысячи лет, и перестроить их на новый лад, — задача сама по себе слишком затруднительная. Здесь трудность увеличивалась еще самим свойством того начала, которым должно было держаться новое здание. Реформаторы хотели сохранить неизменность церковной догмы, внеся в нее свободу; но так как одно оказывалось несовместным с другим, то они должны были впадать в постоянные противоречия с собою. В богословском отношении едва ли можно протестантизм считать шагом вперед. Тем не менее нельзя отказать ему в высоких нравственных достоинствах. Поставляя личное отношение верующего к Богу в основание всего своего учения, он возвысил значение человека. Наложенную извне дисциплину он перевел в святилище совести, исполнение внешних форм и обрядов он заменил требованием внутреннего чувства и собственным нравственным сознанием лица. Человек Нового времени обязан протестантизму значительною долею нравственного своего достояния. Притом провозглашенные протестантизмом начала свободы скоро прорвали те узкие границы, в которые они были поставлены на первых порах. И свобода совести, и свобода мысли впервые в протестантских землях получили право гражданственности и оттуда завоевали весь мир.