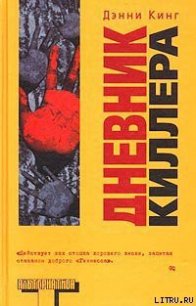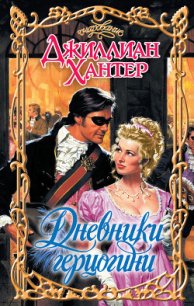Дневники русских писателей XIX века: исследование - Егоров Олег Владимирович "trikster3009" (серии книг читать онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
Принадлежность Короленко к поколению «семидесятников», с их ярко выраженным социальным интересом, с хождением «в народ», проявилась в особенностях «сюжетной» динамики. События в дневнике развертываются по кривой, образующий круг, а ее направление совпадает с траекторией движения главных оппозиционных сил эпохи: Восточная Сибирь – верховья Волги – Петербург – Америка – Юго-Восточная Европа (Румыния) – Крым – Нижний – Полтава. Замкнутость географии сюжета, его циклический характер, совпадает как с завершенностью идейного развития Короленко на этапе ведения дневника, так и цикличностью жанрового содержания летописи. Открыв повествование изображением природы, нравов и быта отдаленных сибирских поселков, дневник Короленко далее проходит длительный этап хроники общественной жизни и завершается (в начале XX в.) содержательно однородным, – но на более высоком уровне осмысления – описанием повседневной жизни украинской глубинки, с ее типами, нравами и проблемами.
Образная, типологическая и сюжетная определенность дневника сродни его жанровому содержанию. Хроника Короленко носит публицистический характер. В ней субъективно-оценочное слово имеет политическую направленность. Эта идейная позиция автора, свойственная всем этапам ведения дневника, в концентрированной форме была выражена в записи-письме, адресованном начинающему автору, в полтавском дневнике 1903 г.: «Мой совет – оставить эту форму – чисто субъективных настроений, трудно уловимых и неопределенных. Нужно больше внимания к жизни, в ее разнородных проявлениях. Собственное настроение и описание – только соус. Настоящее блюдо – изображение жизни <…>» (т. 4, с. 330).
Первое место на страницах дневника всегда занимают злободневные политические события, столичные и провинциальные. Будучи долгие годы лишенным свободы передвижения, писатель тем не менее всегда в курсе происходящего, пульс которого бьется на кончике его пера. Порой писатель уподобляется вездесущим и неутомимым в поисках новостей репортерам, заносящим в блокнот сообщение о еще не завершенном событии: «Я пишу эти строки, а мимо моих окон идут казаки, поют песню и свищут» (т. 4, с. 287).
Нередко публицистическая заостренность и желание поспеть за стремительным ходом событий заставляли Короленко делать в своем дневнике пророческие прогнозы: «25 февраля 1901 г. <…> Медленно, но неуклонно нарастают понемногу и собираются великие силы будущей борьбы. Нашим детям предстоит жить в очень драматическое, но и интересное время» (т. 4, с. 212).
Жанровая эволюция дневника в последней четверти века более всего затронула его метод и стиль. Происходит расширение творческих источников дневника, углубляется его взаимодействие с другими нехудожественными жанрами. Дневник обогащается новаторскими достижениями публицистики, исследовательскими приемами из области общественных наук. Все эти новации приводят к серьезным изменениям в характере субъекта повествования. Функция записи постепенно начинает утрачивать характер отчета-исповеди за прожитый день. Автор начинает играть роль обозревателя, пишущего с оглядкой на то, что его слово услышит кто-то другой. Разнородные источники информации, которые использует повествователь, разрушают единство стиля. Многообразие речевых форм создает сложную стилистическую структуру.
По принципам отбора жизненного материала и его источникам дневник Короленко занимает исключительное место в ряду образцов этого жанра конца XIX столетия. Он содержит такое информативное богатство, которого мы не встретим ни у одного из его современников, в такой же мере подверженных перечисленным тенденциям.
Пестрота источников информации и жанровых форм, бросающаяся в глаза уже в ранних дневниках, поначалу наводит на мысль о творческой незрелости начинающего писателя. Однако последовательность проведения этого принципа и в дальнейшем убеждает в том, что он имеет фундаментальное методологическое значение.
Ранний дневник, помимо мыслей и наблюдений автора, содержит отрывки из переписки людей 40–60-х годов, французские стихи, цитаты из книг, переводы, отрывки из собственных писем разным адресатам.
Описания увиденного и услышанного включают в себя пространные диалоги, подслушанные в дороге, на временном ночлеге или вынужденной остановке. В таких случаях Короленко стремится передать материал зрительно, дословно и почти без комментариев, т. е. по своему признанию, «относит все явления к их изображению» (т. 1, с. 65).
В дальнейшем живые картины событий все чаще и интенсивнее дополняются аналитическими материалами. Но одновременно происходит и расширение источниковедческой базы. Дневник обогащается вырезками из газет, вклеенными между записями, выписками из сочинений писателей (Щедрин), философов, публицистов (Берне), политиков, из писем, адресованных не Короленко (анонимное письмо к Николаю I).
В поздних дневниках весь этот материал подвергается творческому синтезу и уже не выступает в «сыром» виде. Писатель, ссылаясь на источник, ставит своей задачей не передать его дословно, а подвергнуть анализу с определенных идейных позиций. Источниками подобных аналитических отчетов становятся газетные материалы, письма разных корреспондентов, слухи, изустная информация лиц, пользующихся доверием автора: «Из Варшавы получил следующее анонимное письмо» (т. 4, с. 191); «Очень характерный анекдот <…>» (т. 4, с. 170); «Сегодня баронесса рассказывала Н.К. Михайловскому анекдот, или действительное происшествие, прекрасно характеризующее настроение и государственную мудрость настоящей минуты» (т. 2, с. 36); «Во всех этих толках и слухах нельзя не заметить двух основных нот <…>» (т. 2, с. 300); «Сегодня в «Волгаре» (№ 50) напечатано <…>» (т. 3, с. 113); «Из источника случайного, но совершенно достоверного узнал <…>» (т. 3, с. 27).
Порой даже характеристика какого-то лица строится из сочетания собственных суждений о нем Короленко и газетных источников: «Одна из фигур, несколько загадочных, но во всяком случае интересных, – это фигура С. И. Мальцева» (т. 2, с. 192). И далее следует выписка из журнала «Гражданин».
В группе поздних дневников нижегородского и полтавского периодов набирает силу тенденция строить проблемно-тематическую запись по методу газетной публицистической статьи с обязательным логическим выводом. Такой вывод имеет обобщающий характер и как бы раскрывает философско-исторический смысл эпохи: «Нет единого производящего в истории <…> В ней всякое явление, всякий двигатель, являясь следствием предыдущих, в то же время служит причиной множества последующих явлений» (т. 4, с. 85); «Итак, опять начало того же. Русская история новейших времен совершила круговорот и пришла опять к исходной точке» (т. 4, с. 199–200); «До сих пор религиозный вопрос дремал на заднем фоне общественного сознания. Теперь его выдвигают вперед. Горизонт действительно заволакивается тучами. Изуверство политическое явно связывается с изуверством религиозным» (т. 4, с. 262–263).
Отказ от свободного расположения материала в записи, являющегося характеристической особенностью жанра дневника, в пользу тематического структурирования находит свое продолжение в драматизации и типизации частного случая. Эта тенденция действовала как противовес хроникальной организации материала. Выбирая из массы обыденных явлений одно, на его взгляд наиболее типичное, Короленко строит рассказ о нем как драматическое повествование, заключающее в себе обобщающий смысл. При этом автор нередко ссылается на историю, находит аналогии в публицистике, общественных науках, современной жизни других стран: «Некоторые черты этой драмы глубоко характерны и интересны» (т. 3, с. 123); «Повторяется русская история, сильно повторяется <…> Старушка мать Герда – в слезах… Совершенно так, как была моя мать около 20 лет назад. Да, повторяется русская история» (т. 4, с. 92); «Роковое «самоотрицание» существующего порядка в этом эпизоде высказывается ясно <…> «Пусть только случится, – писал Л. Берне в «Менцеле – французоеде», – что между испанскими якобинцами найдется какой-нибудь математик – и союзный сейм тотчас же запретит у нас логарифмы». У нас достаточно найти несколько раз при обысках свод законов, чтобы объявить эту книгу «изъятой из библиотек» (т. 4, с. 36–37).