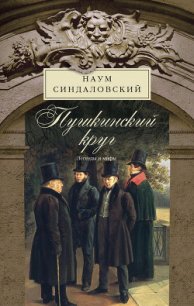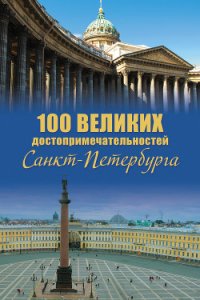Санкт-Петербург – история в преданиях и легендах - Синдаловский Наум Александрович (читать книги онлайн бесплатно полностью без TXT) 📗
В то же время известно, что особняк Юсуповой на Литейном построен архитектором Бонштедтом в 1858 году, более чем через двадцать лет после смерти Пушкина.
Влияние городского фольклора на творчество Пушкина было столь очевидным, что даже появление его ранней поэмы «Руслан и Людмила», казалось бы к подлинным реалиям петербургской жизни отношения не имеющей, тем не менее обусловлено аурой Петербурга. Поэма появилась в печати в 1820 году, а за два года до этого Пушкин якобы побывал в Старом Петергофе и долго стоял у каменной головы, о которой в свое время мы еще расскажем подробнее. В то время на голове будто бы был еще металлический шлем, следы от крепления которого кажется, сохранились до сих пор. А ставший хрестоматийным образ Лукоморья с его волшебным дубом, по преданию, навеян посещением Каменного острова, где рос еще могучий тогда дуб, посаженный самим Петром I.
Даже поэма «Евгений Онегин», казалось бы насквозь пронизанная реальным сходством ее героев с подлинными современниками поэта, поэма, описание быта и событий в которой настолько конкретны, что по определению лишены всякой мифологизации, вписывается в заданную нами тему. Вот только несколько легенд, известных нам. Одна из них относится к имени главного героя, которое, с одной стороны, будто бы было извлечено Пушкиным из легенды, с другой – впоследствии само породило легенду. Ю. М. Лотман в своих знаменитых комментариях к «Евгению Онегину» приводит легенду, о которой вполне мог знать Пушкин. Будто бы в Торжке в начале XIX века проживал некий булочник Евгений Онегин. Скорее всего, это случайное совпадение. Такие фамилии на Руси были редкостью и в большинстве своем имели литературное происхождение. Их придумывали поэты и писатели по известному принципу: от красивых имен рек. Фамилии Ленский, Онегин, Печорин – одного ряда.
Более интересна легенда о человеке, который в качестве псевдонима взял фамилию литературного героя. Это известный собиратель и создатель крупнейшей пушкинской коллекции в Париже Александр Федорович Отто. Согласно легенде, Александр Федорович был незаконным сыном некой юной фрейлины и императора Александра II. По царскосельскому преданию, выброшенный плод монаршей любви случайно обнаружили в одной из глухих аллей парка. Но сам Александр Федорович утверждал, что он был найден не где-нибудь, а под чугунной скамьей памятника Пушкину в лицейском садике. Вот почему он взял себе столь необычный псевдоним – Евгений Онегин – и всю свою жизнь посвятил Пушкину. В этой связи хочется напомнить рассказ друга Пушкина Нащокина о приезжем из провинции, который его уверял, что Пушкин у них уже не в моде, а все «запоем читают нового поэта – Евгения Онегина».
Другая легенда восходит к Марии Николаевне Раевской, «утаенной» любви поэта, в замужестве княгине Волконской, последовавшей за своим мужем декабристом Сергеем Волконским в Сибирь. Многие черты Марии Николаевны заметны в образе пушкинской Татьяны Лариной. Легенда же сводится к тому, что образцом для письма Татьяны к Онегину стало письмо, якобы на самом деле полученное Пушкиным от юной Марии. И действительно, в легенду верится, потому что придумать такое в первой четверти XIX века было просто невозможно. Сам факт переписки, затеянной молодой барышней, противоречил тогдашней дворянской этике взаимоотношений полов.
Есть своя легенда и у трагедии «Борис Годунов». Пушкинистам хорошо известно, что канонический вариант трагедии, заканчивающийся знаменитой пушкинской ремаркой «Народ безмолвствует», отличается от первоначального текста, где послушный народ кричит: «Да здравствует царь Димитрий Иоаннович!» Согласно легенде, на таком принципиальном изменении текста настоял Василий Андреевич Жуковский, объясняя это тем, что Пушкин писал трагедию при Александре I, а к изданию готовил уже при Николае I, и такая жесткая концовка могла сыграть роковую роль в судьбе как «Бориса Годунова», так и самого автора, ее в тех условиях просто необходимо было смягчить. И Пушкин будто бы согласился.
С Николаем шутить не стоило. Согласно одному литературному преданию, узнав, что Пушкин интересуется «какими-то бумагами „августейшей бабки“», Николай ответил решительным отказом. «На что ему эти бумаги? Даже я их не читал. Не пожелает ли он извлечь отсюда скандальный материал в параллель песне Дон Жуана, в которой Байрон обесчестил память моей бабки?» Правда, Пушкин, согласно тому же преданию, когда ему передали слова императора, ответил своеобразно: «Я не думал, что он прочел „Дон Жуана“».
С городской мифологией связана и другая петербургская повесть, как ее в подзаголовке назвал сам поэт, – одно из самых гениальных пушкинских произведений, поэма «Медный всадник». По преданию, историю об ожившей статуе Петра рассказал Пушкину его старый приятель, весельчак и острослов, склонный к мистике и загадочности, Михаил Виельгорский. Кроме того, в столице был распространен рассказ, который Пушкин, отсутствовавший во время трагического наводнения 1824 года, услышал от друзей. Говорили о каком-то Яковлеве, перед самым наводнением гулявшем по городу. Когда вода начала прибывать, Яковлев поспешил домой, но дойдя до дома Лобанова-Ростовского, с ужасом увидел, что идти дальше нет никакой возможности. Яковлев будто бы забрался на одного из львов, которые «с подъятой лапой, как живые» взирали на разыгравшуюся стихию. Там он и «просидел все время наводнения». Известен был Пушкину и другой рассказ о недавнем наводнении. Героем его был моряк Луковкин, дом которого на Гутуевском острове вместе со всеми родными смыло водой.
Одной из самых загадочных строк «Медного всадника» вот уже полтора столетия считается мятежный шепот несчастного Евгения в адрес «державца полумира»: «Добро строитель чудотворный/Ужо тебе!» Известно, что «Медный всадник» был впервые напечатан не в том виде, как он написан Пушкиным. Это дало повод к легенде. Будто бы в уста Евгения Пушкин вложил какой-то монолог, при публикации изъятый цензурой. Говорили, что при чтении поэмы самим Пушкиным «потрясающее впечатление производил монолог обезумевшего чиновника перед памятником Петру». Называли даже количество стихов этого монолога, запрещенных к публикации. Их было якобы около тридцати. Однако, как пишет В. Брюсов, «в рукописях Пушкина нигде не сохранилось ничего, кроме тех слов, которые читаются теперь в тексте повести».
«Медный всадник» был написан в 1833 году. Пушкин был на вершине своей литературной славы. И примерно в это же время, вскоре после рождения старшей дочери, он, по одному из преданий, будто бы сказал жене: «Вот тебе мой зарок: если когда-нибудь нашей Маше придет фантазия хоть один стих написать, первым делом выпори ее хорошенько, чтоб от этой дури и следа не осталось».
Основания для такой невеселой шутки у Пушкина были. В первую свою ссылку он отправился уже в 1820 году за вольнолюбивые стихи и резкие эпиграммы. Этому предшествовала ловко раскрученная против молодого поэта интрига. Был пущен слух, будто его высекли на конюшне. Затем – что слух о конюшне был распущен небезызвестным Федором Толстым, щеголем и дуэлянтом по кличке «Американец». Затем родилась легенда о том, что поэта спасла – кто бы мог подумать – ссылка на юг. Если бы не эта спасительная ссылка, состоялась бы дуэль между Пушкиным и Федором Толстым, и Пушкин был бы, оказывается, неминуемо «убит на семнадцать лет раньше, так как Федор Толстой стрелял без промаха».
Имя Федора Толстого-Американца было хорошо известно светскому Петербургу. Оголтелый распутник и необузданный картежник, Федор Толстой был наказанием и проклятием древнего рода Толстых. Это наказание, как до сих пор считают в роду Толстых, было дано им во искупление глубоко безнравственного поступка того самого Иуды-Толстого, который шантажом и обманом вернул царевича Алексея в Россию и сдал в Петропавловскую крепость, о чем мы уже знаем. Согласно преданиям, у Федора Толстого состоялось двенадцать дуэлей, одиннадцать из которых закончились смертельным исходом для его противников. Говорят, имена убитых Толстой заносил в «свой синодик». Так же старательно в тот же синодик он вписывал имена прижитых им детей. По странному стечению обстоятельств, их было двенадцать. Одиннадцать из них умерли в младенческом возрасте. После смерти очередного ребенка он вычеркивал из списка имя одного из убитых им на дуэлях человека и сбоку ставил слово «квит». После смерти одиннадцатого ребенка Толстой будто бы воскликнул: «Ну, слава Богу, хоть мой чернявый цыганеночек будет жить». Речь шла о ребенке «невенчаной жены» Федора Толстого Авдотьи Тураевой.