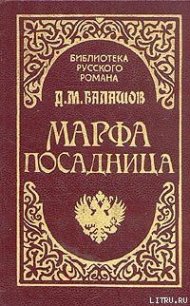Воля и власть - Балашов Дмитрий Михайлович (читать полную версию книги TXT) 📗
– Ты на Софью Витовтовну не смотри! Решает земля! В ином и самый набольший землю не передолит!
Намеренно не назвал великого князя Василия. Понимал себя как подручника, а тут уже ничего не содеешь противу, ежели… Ежели только набольший тот сам не изменит земле! О таковом думалось, впрочем, трудно. Да и как посудить? Во своем дому хозяин не станет же зажиток и добро губить! Так и князь! Нет, не верилось, не укладывалось, что набольший, глава земли, может стать предателем своего языка. Николи того не бывало! Хотя и бывало! В иных землях, в той же Византии греческой… Ох! Не пошли, Господи, и нам того наказанья когда-нибудь!
– В Дмитрове заночуем! – высказал, взглядывая на небо и приметно темнеющий окоем. «Осень. Как-то сын будет без меня? Князь нравен, нетерпелив… Вона, как с Новым Городом дело повел! А коли и с Ордою умыслит такожде? Пождать, пождать надобно! Не противу, а вместях с Ордою, вкупе деять! Подчинить, да не отринуть, вота што надобно! Поймут ли? Содеют ли по годному? А то – всю жисть трудишься, у могилы ждешь: кому передать свечу? Ан, быват, и некому передать, и все на ниче!» И таково горестно зрети перед концом, уже на убыли сил, безлепицу и глупую гордыню молодости, не способной воспринять ни опыта предков, ни добытой великими трудами мудрости родительской.
В Твери они сразу попали словно в разоренное осиное гнездо или в муравейник. Князь был еще жив, но находился в монастыре и при смерти. Захлопотанная, зареванная Анна повисла на шее у отца, всплакнув по случаю.
Кошка некоторую небрежность княжат воспринял спокойно, в отличие от Ивана, надувшегося, как индейский петух. Однако и он прихмурился, когда выяснело, что великого князя им никак не повидать.
Михаил отказывался принимать кого-либо, да и верно, был очень плох. Федор Кошка все-таки прорвался, использовав все свое влияние, волю и церковные связи. Через самого владыку Арсения выхлопотал разрешение на мал час посетить умирающего.
И вот – лавра Святого Афанасия. Ограда, у которой не редеют толпы народа. Тесно застроенный двор, с кельями в два жила [19]. И наконец крыльцо, строгий придверник, миновать коего было весьма непросто. И он – Михайло. Бледный, ужасно старый, худой, в монашеском платье и с запахом смерти, исходящим от бессильного тела. Медленно перевел взгляд – неотмирный, нездешний уже. Кошка перепал: а вдруг не узнает?! Но князь, вглядевшись, узнал, и бледный окрас улыбки коснулся иссохших ланит.
– Федор… Пропустили тебя! – сказал не то дивясь, не то утверждая.
– Как видишь!
Федор поклонил князю земно, перекрестился на иконы, твердо сел у ложа. Он не боялся смерти, предчувствуя, что и его век не долог уже.
– Помнишь, в Орде… – Михайло говорил трудно, замирая почти на каждом слове. Морщил лоб, ему уже трудно было связать мысль в словесное обличье.
– Я был не прав? – вопросил после долгого молчания Михайло.
Федор смотрел на умирающего прихмурясь. Отверг:
– Ты был прав! То, что достигается без труда, мало ценят!
Помолчали. Глаза у князя посветлели. Он явно вглядывался во что-то, явленное ему одному.
– Так будет Русь? – вопросил.
– Будет! – твердо отмолвил Федор, глядя в глаза князю. – Грядет новый век и будет Русь!
– Новый век! – как эхо повторил умирающий и, помолчав, добавил: – Ну, тогда все было правильно. Поцелуемся, Федор!
Кошка с трепетом коснулся почти неживых холодных уст князя. Почуяв нежданную предательскую слезу на своей щеке, вспомнил сына, здорового, румяного, уверенного в себе и в правде своей. Сколько поколений прошло и пройдет, уверенных в себе и в бессмертии своем? Пройдут, прейдут и сгинут, освободивши место иным, столь же юным и гордым, столь же уверенным в личном бессмертии!
Должно, однако, помнить, что бессмертие всякого «я» – в бессмертии рода, а бессмертие рода – в бессмертии языка, народа, в продолженности навычаев старины. А бессмертие народа (ибо и народы смертны!) в постоянном обновлении, в появлении все новых и новых племен, множественность которых и являет собою бессмертие человечества, иначе обреченного исчезнуть в свой неотменимый черед.
Скрипнула дверь. Придверник торопил боярина. Федор Андреич поднялся. Князь слегка прикрыл вежды, провожая его, и Федор вновь поклонил ему в пояс, коснувшись рукою пола. Как-то все иное показалось мелко и ничтожно в тот миг! Суета сует и всяческая суета!
Сына он нашел на дворе и едва не порешил тотчас уехать, но дочь с зятем упросили остаться, а там и двадцать шестое августа подошло. И было всенародное прощание с телом князя, была поминальная трапеза, и только после того, порядком измученный, простывший Кошка с сыном устремил домой.
Уже на обратном пути, подъезжая к тому же Дмитрову, Иван вопросил родителя:
– Ты баешь, батяня, што вот он – великий муж, по слову твоему! Дак… И почто не победил? Али…
– Ни то, ни другое, сын! – отозвался старый боярин. – А надобна нам всем, всей Руси, единая власть! А для того… Я с покойным Михайлой в Орде ищо баял о том… Кто-то должен был уступить. Он понимал это, понял! И потому – паки велик!
Боле о Михайле до самой Москвы они не баяли.
Моросил мелкий осенний настырный дождь, стынь и сырь забирались под дорожную вотолу [20]; пути раскисли. И разом померкла, потускнела, съежилась предсмертная краса осенних лесов. В такую погоду и верхоконному боярину забедно, а уж каково пешему страннику, убогому, бредущему из веси в весь в поисках пропитания!
Федор Кошка, достигши дома, слег и долго отлеживался на русской печи, в челядне, держа ноги в горячем овсе.
Глава 3
Вслушаемся в музыку названий городов русского Севера, или Заволжья, и представим, вспомним, что стоит за каждым из них: Каргополь (где причудливо соединилось местное речение с греческим словом «полис», что означает «город»), Вытегра, Шенкурск, Весьегонск (весь – имя угро-финского племени, «весь Егонская»), Белоозеро, Великий Устюг, Яренск, Кологрив, Селижарово, Устюжна, Галич, Тотьма, Вологда, Кубена; Солигалич, Чухлома, Пермь, Чердынь, Вятка, Кунгур, Пустозерск… Поселения, обязанные своим появлением древним насельникам края, а затем – монастырской, крестьянской и купеческой колонизации, муравьиной работе тысяч и тысяч людей, осваивавших местные земли так, что каждый клочок чернозема оказался со временем распаханным и засеянным в здешних лесах хлебопашцами-русичами.
Воспомянем великие реки Севера: Двину и Пинегу, Мезень и державную Печору, Сухону, Вычегду, Вагу и Вятку, Кокшеньгу и Юг, величественную Каму и десятки других, великих и малых, текущих с Урала и пересекающих эту древнюю, все еще мало обжитую землю, до недавнего времени укрытую густою шубою хвойных лесов и полную дыхания истории.
Вот как описывает летописец, крещенный просветителем Стефаном, Пермским край: «А се имена живущим около Перми землям и странам и местом иноязычным: Двиняне, Устюжане, Вильяжане, Вычажане, Пинежане, Южане, Серьяне, Гаияне, Вятчане, Лопь, Корела, Югра, Печора, Вогуличи, Самоядь, Пертасы, Пермь Великая, глаголемая Чусовая. Река же первая, именем Вымь, впаде в Вычегду; другая река Вычегда обходяще всю землю Пермьскую, потече в северную страну и впаде в Двину ниже Устюга сорок верст, река же третья Вятка потече в другую страну Перми и вниде в Каму реку. Сия же река Кама обходящи всю землю Пермьскую, по сей реце мнози языци седят, и потече на юг в землю Татарскую, и впаде в Волгу реку ниже Казани шестьдесят верст».
Когда-то, в незапамятных тысячелетиях, еще до нашествия ледников, здесь росли древовидные папоротники и ползали ящеры, поедая друг друга. Затем земля эта замерзла, обратясь в тундру, по которой бродили мамонты, шерстистые носороги и дожившие до наших времен овцебыки. Потом снова стало теплеть. Где-то здесь в ту пору располагалась «Великая Пермь» – загадочное государство, невестимо сгинувшее, возможно – с новою волною холода, притекшего с «дышущего моря» (Ледовитого океана). Ныне же, в четырнадцатом столетии, с новым потеплением (на севере начал вызревать хлеб!) земля эта деятельно заселялась Русью: «низовцами» – жителями разоряемого постоянными татарскими набегами Волго-Окского междуречья и новгородцами, что наложили на северные Палестины, вплоть до Урала, тяжелую руку свою. Здесь добывали дорогие меха, сало «морского» зверя (ворвань), красную рыбу и «рыбий зуб» (моржовый клык, а также бивни мамонтов), добывали «закамское» серебро («камнем» назывались Уральские горы) и многое иное. Все эти богатства, невзирая на чересполосицу владений, где новгородских, а где и ростовских, и московских тож, перетекали в руки Господина Великого Нова Города, который рос, богател, утверждался в своей независимости, отбивая набеги свеи [21] и орденских рыцарей, оставаясь, до времени, стражем всей северо-западной Руси.
19
…в д в а ж и л а… – жило – жилье, жилище.
20
…п о д д о р о ж н у ю в о т о л у… – вотола, ватула – верхняя грубая одежда, накидка.
21
…с в е и… – шведы.