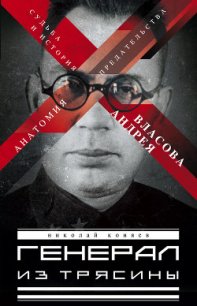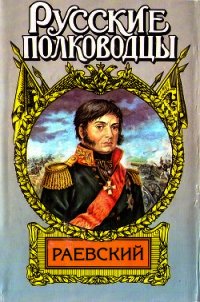Генерал Корнилов - Кузьмин Николай Павлович (е книги TXT) 📗
Мешковато завозился Милюков.
– Александр Федорович, этот генерал пишет стихи. Керенский дернул головой, словно от удара в подбородок.
– Стихи? Гм… Нет, не читал.
– Он по-персидски пишет.
– Вот даже как! Но-о… почему же не по-русски?
– А вот он приедет, и вы его спросите сами! – усмехнулся Милюков.
– Стихи… – бормотал Керенский. – А что? Прекрасно. Но вая армия, новые генералы… Генерал не из казармы, а-а… так сказать, с Парнаса. Вот что значит, господа, очистительная революция!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Лавр Георгиевич свою жену без тени улыбки называл «начальником тыла». Таисия Владимировна, многолетняя спутница жизни, обладала редкостным умением в любых условиях устраивать вполне приличный быт. Сказывались навыки офицерских жен, мотающихся с мужьями по самым захолустным гарнизонам. Они исхитрялись кормить и мужа и детей на скудные 39 рублей казенного жалованья.
В Петрограде семья Корнилова много лет снимала небольшую, тесную квартирку у вдовы-чиновницы возле Певческого моста. Поселились они, когда Лавр Георгиевич учился в Академии Генерального штаба. Здесь жили в страшном 1905 году, отсюда уехали в Китай и сюда же вернулись четыре года спустя. В этих стенах прошлым летом Корнилов пережил немало горьких дней, когда, убежав из германского плена, ждал военного суда.
Должность командующего войсками округа (по прежним меркам – столичный генерал-губернатор) предусматривала казенную квартиру. Таисия Владимировна решила не ломать налаженного быта. Судьба военного человека, да еще в такое время, могла переломиться в одночасье.
Больше всех возвращению отца обрадовался четырехлетний Юрик. Мальчишка, крепенький, живой как ртуть, не слезал с отцовских колен. Он каждый вечер не ложился спать, не дождавшись отца со службы… Дочь сильно подросла и выглядела настоящей невестой. Она увлекалась столичными театрами, много читала. Огонь в ее комнатке горел допоздна. Как-то мимоходом Лавр Георгиевич глянул на валявшуюся книжку. «Конь бледный» Бориса Ропшина (Савинкова), знаменитого террориста, настоящей грозы царской семьи и губернаторов. Вперемежку с бросанием бомб этот отчаянный боевик-убийца быстро и ловко сочинял романы с «идеологией», которыми зачитывалась учащаяся молодежь.
К утреннему чаю Таисия Владимировна положила на угол стола несколько свежих газет. В теперешней столичной жизни чтение газет, хотя бы наспех, стало необходимостью. Чаевничали на кухне, вдвоем, как некогда в туркестанских знойных гарнизонах, где молоденьким офицерам приходилось снимать чуть ли неглиняные сараи с прохудившимися крышами. Дети еще спали. Дочь, по обыкновению, зачитывалась до рассвета.
Чай подавался огненный, заваренный до черноты. Отрывисто прихлебывая из громадной кружки, Лавр Георгиевич торопливо просматривал газеты.
Градус газетной эйфории поднимался с каждым днем. Журналисты захлебывались. «Царство свободы…»«Эра всеобщего братства…» Вместо старорежимного «господин» теперь все чаще «гражданин», а иногда – «товарищ». Вместо привычного «Боже, царя храни» гремит повсюду «Марсельеза»… Копируют, как могут, французских якобинцев!
Ага, снова о нем: «революционный командующий…» Вот заладили!
За ним изо всех сил ухаживали – это становилось ясно. Ему не давали отойти в тень, заняться работой по наведению порядка в запущенном хозяйстве столичного гарнизона. А дел накопилось невпроворот. Однако взяться за расчистку никак не доходили руки – все некогда, все недосуг, бесконечные вызовы, совещания, торжественные собрания. Революция праздновала свою победу над самодержавием. При этом фигура столичного генерал-губернатора постоянно выставлялась напоказ. Не останавливались даже перед самой грубой лестью. Чье-то бойкое перо развязно утверждало, что в облике «первого революционного командующего» чрезвычайно много схожего с Суворовым: такой же щуплый телом, простецкое мужицкое лицо, удаленность от придворных дрязг, даже чуть ли не природное отвращение к любой политике, к любым интригам.
Интересно, какие события готовились и какая ему при этом отводилась роль?
Лавр Георгиевич обратил внимание на желчные насмешки английского посла Бьюкеннена. Давая интервью кому-то из пронырливых газетчиков, посол иронизировал: «По представлению русских, свобода состоит в том, чтобы легко относиться к вещам, требовать двойной заработной платы, демонстрировать на улицах и проводить время в болтовне и голосовании на публичных митингах». Высокомерную язвительность посла понять нетрудно. Русские, обрадовавшись свободе, отказывались и работать, и воевать. А ну им взбредет в голову бросить опостылевшие окопы и побежать домой, к бабам и детишкам? Что тогда останется союзникам? Воевать с Германией один на один? Поэтому послы Англии и Франции, Бьюкеннен и Палеолог, не жалели сил, чтобы удержать русскую армию в окопах. Они уже начинали понимать, что в лице князя Львова в качестве союзника имеют человека, совершенно не умевшего управлять. Отсутствие же центральной твердой власти грозило катастрофой, в первую очередь на фронтах.Таисия Владимировна дождалась своей минуты. С чувством оскорбленной женщины она произнесла:
– Это же низость! Как ему не стыдно? И это великий князь! Ей-богу, жаль, что я не мужчина, не офицер. Я бы вызвала его на дуэль!
Дело касалось бывшей императрицы Александры Федоровны. Великий князь Кирилл Владимирович (тот самый адмирал с красным бантом), беседуя с газетным человечком, самым бессовестным образом поливал помоями несчастную царицу. «Я не раз спрашивал себя – не сообщница ли она Вильгельма, эта бывшая императрица? Но всякий раз силился отогнать от себя эту страшную мысль».
Подавив вздох, Лавр Георгиевич покачал головой. Хорош Рюрикович, да еще великий князь! Так выслуживаться перед новыми властями! Из кожи лезет… Сукин сын, холуй!
– Что ты от них хочешь? – проговорил он. – Романовы… Помойка!
Как всякого военного, Корнилова связывали с царской семьей узы долга и присяги. Лавр Георгиевич относился к той части русского офицерства, которая тянула свою лямку с убеждением: «За царем служба не пропадает!» В большинстве своем выходцы из солдатских семей, они пробились к широким генеральским эполетам исключительно горбом и составляли движущую силу русской армии. В армии, считал Корнилов, выковывался знаменитый русский характер. Армия была школой долга, чести, стойкости и патриотизма. Само суровое воинское дело заставляет человека выпрямлять свою душу, свой характер.
Любой организм, в том числе и государственный, имеет обыкновение стариться, дряхлеть. Искусство управления державой в том и состоит, чтобы сохранять ее громадный организм в состоянии как бы вечно молодом, деятельном, мускулистом. Чьей виной считать дряхление России? Великая держава год от года превращалась в рыхлую дебелую купчиху, которую сводят под руки с высокого крылечка и усаживают в шарабан, чтобы везти в баню парить и натирать бобковой мазью. Больна была Россия, и больна опасно. Военные люди убеждались в этом ощутимее других, ибо много лет не вылезали из окопов и поливали землю кровью.
И все-таки к больному зовут врача, но не палача!
В первую минуту, узнав о добровольном царском отречении, Лавр Георгиевич пришел в негодование. Царь сбежал со своего поста, словно дезертировал. За такие позорные проступки во время военных действий полагалось самое безжалостное наказание. Однако постепенно выяснялось, что отречение было не добровольным, а принудительным. Государь стал жертвой обмана, заговора, предательства.Корнилов узнал, что генерал Алексеев весь день 1 марта провел у прямого провода, переговариваясь с командующими фронтами. Мнение русского генералитета было категорическим: царь должен отречься и уступить трон наследнику. Государь покорился приговору и поставил свою подпись под манифестом (заготовленным заранее). Гучков с Шульгиным восторженно схватили этот документ и, не теряя ни минуты, помчались с ним обратно в Петроград. Так выглядело отречение в официальном изложении. На самом же деле Корнилов обнаружил грубую неувязку в хронике событий того рокового для России дня, 1 марта. Да, Алексеев провел переговоры с генералитетом. За отречение царя высказался даже великий князь Николай Николаевич. Однако суровый приговор командующих окончательно оформился лишь утром 2 марта, а в это время Гучков с Шульгиным уже подлетали из Пскова к столице, имея на руках манифест об отречении. Что же выходило? Царя, заманив в штаб Северного фронта, по сути дела, арестовали и принудили, заставили отречься! И совершили это государственное преступление двое: генералы Алексеев и Рузский.