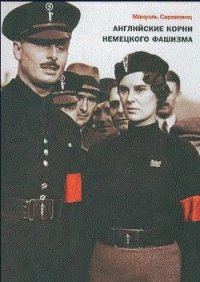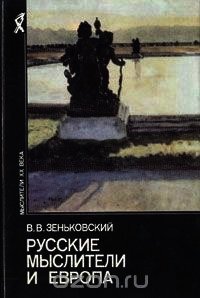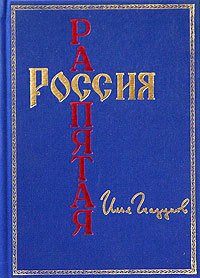Россия и мессианизм. К «русской идее» Н. А. Бердяева - Саркисянц Мануэль (читать книги онлайн без .txt) 📗
«Мы, может, погибнем в пути, но они перейдут — не достаточно ли одной этой мысли, чтоб с сладкою надеждой явиться перед судиею, исполнив долг свой?», — спрашивал Герцен, говоря о чистых, высоких учителях, простиравших руку всем слабым и нуждающимся, чьего голоса «не сковали темницы, не казнили секиры, не растерзали тигры».
«Что против этой веры могли легионы, патриции, и цезари? Эти люди веры были сильнее сильных мира сего…». «С живым словом в душе, с пламенной верой, с пламенной любовью ко всему человечеству… переносят гонения…» [64], — писал Герцен в «Легенде» (1835), созданной по мотивам жития и страдальчества Св. Федоры (Четьи Минеи), в момент, когда он только начал приходить к своему социалистическому, сен-симонистскому мышлению {716}. В «Легенде» слышны отголоски буддистского, «христианизированного» повествования о царевиче Иоасафе и песни «О пустыне»:
«Нищ и убог хощу быти… с града гряду в пустыню, любя в ней зело густыню». «Гонимые за веру и от градов бегущие, и расхищение имения приемлют…». «Бежи из града во пустыню, в любезну всем святым частыню …Чертоги царски презирали, все богатство повергали… в слезах и плаче жизнь кончали» {717}.
Православная традиция развивала в русском народе сознание того, что пребывание человека на земле — это всего лишь временное странствие по земному миру. Странник, который, по словам Бердяева, и воплощал духовный идеал России, не принадлежал никакому «граду», да и само слово «град», или «город», в русском языке этимологически связано с «оградой», в противоположность, например, немецкому «Stadt», производному от «Staette» («место», «очаг»). Духовная жизнь России была устремлена к Грядущему Граду, к Китежу; противостояние Китежа и Петербурга предопределило духовные импульсы революции.
Позиция революционного народника, отворачивающегося от существующего социального строя — постольку, поскольку он не мог изменить его {718}, — воспроизводила модель, которой следовал странник-старообрядец, отвергающий «Вавилон» {719}. Недаром Флоровский назвал «хождение в народ» хилиастическим движением, а Федотов уподобил его возвращению в Фиваиду {720}. Характеристика революционного народничества только как политического движения, безусловно, является неполной.
Как наиболее радикальные его приверженцы (и, в частности, уже Герцен, оставивший недвусмысленные свидетельства на этот счет в таких своих произведениях, как «Письма об изучении природы» и «Дилетантизм в науке» (глава «Буддизм в науке»), так и религиозные мыслители, представители церкви усматривали в нем религиозные, аскетические черты и мотивы. Среди первых наиболее известны: Н. К. Михайловский, Вера Фигнер, Степняк-Кравчинский, Фроленко и даже П. Б. Аксельрод, впоследствии сделавшийся марксистом. Среди вторых следует отметить Д. С. Мережковского, С. Л. Франка, В. В. Зеньковского и А. Н. Бердяева {721}.
Венгеров видел, что порыв хождения в народ воодушевлялся «яркостью религиозного экстаза»: «Никогда еще русское общество не присутствовало при таком взрыве беззаветной готовности отдать себя угнетенным и оскорбленным», как в 1870-х годах. Отказ русской интеллигенции от классовых преимуществ, от личного счастья и готовность самопожертвования Венгеров трактовал как чисто религиозный порыв. Хождение в народ Венгеров называл «покаянным рыданием… русского общества» и вспоминал «о народничестве как характеристике героической психологии [18]70-х годов, как святой святых жизни поколения, пошедшего в народ», как «религиозный экстаз, с которым люди добровольно, в самый светлый период жизни, оттолкнули от себя чашу жизненных наслаждений, чтобы пойти по пути величайших страданий, лишений и отказа от всего, что дорого и близко» {722}.
«Страстный душевный порыв к правде — и прямая жажда пострадать за нее — так ярко окрашивал движение [18]70-х годов, что у самых решительных противников его… являлось… инстинктивное преклонение перед высотой настроения». Даже далекий от всего революционного Тургенев в стихотворении «Порог» назвал святой «безбожную» революционерку, которой — на пороге угрюмой мглы, где ее ждут презрение, обиды и смерть, — не нужны ни благодарность, ни сожаления, и которая «и на преступление готова» {723}.
Пренебрежение к жизни — своей и чужой — как бы следовало из ее мелочной греховности. «Не лучше ли совершить в этом грешном мире что-то сверх греховное… во имя… великого будущего, жизни иной»; «принять смерть мученическую, чтобы восстать к жизни иной», — спрашивали себя неравнодушные {724}.
«Народная воля», орган одноименной «террористической» организации, опубликовала в 1879 году стихотворение, посвященное павшим борцам. В нем воспевалось аскетическое отречение от мира {725}.
В знаменитом письме «Народной Воли» к Александру Третьему (1881) утверждалось не больше, не меньше, чем следующее: подобно тому, как распятие Христа не предотвратило победы христианства над античным миром, виселицы не спасут отживший социальный строй {726}. Народовольцы напоминали о том, что мученичество служило образцом для первых христиан, а кровь новых мучеников лишь должна была ускорить завершение истории согласно Апокалипсису.
Герцен неоднократно подчеркивал, что социализм соответствовал благой вести из Назарета по отношению к древнему Риму, что социалисты были апостолами новой вести спасения, как и первые христиане, пророки мира грядущего, презираемые и подвергавшиеся преследованиям, но в конце одержавшие сокрушительную победу {727}.
Даже ультраконсервативный «философ реакции» Константин Леонтьев, одержимый эсхатологическим ужасом и сделавшийся монахом на горе Афон, в обители не мог расстаться с сочинениями революционера Герцена {728}. Подумать только: революционные призывы Герцена — в келье черноризца, исполняющего епитимью!
С этой противоположностью «Фиваиды» и «мира» была связана враждебность по отношению к культуре, присущая русской революции, да, в сущности, и большинству населения России в целом. «Антимирность» русской религиозности образует мировоззренческую основу русских «доктрин отрицания», в частности, фундамент «нигилизма», который Бердяев охарактеризовал как «катод» русской «антимирности». В свете стремления к абсолюту — а именно оно представляло собой главную для русской мысли проблему — любые формы, в которых культура находила свое воплощение, оказывались лишь символами, не имевшими самостоятельной ценности. Еще в начале семидесятых годов девятнадцатого века среди русских студенток в Цюрихе не утихал горячий спор: следует ли уничтожить культуру вместе с породившим ее социальным строем? {729} После революции этот вопрос стал предметом другого спора — между Вячеславом Ивановым и М. О. Гершензоном {730}. Вячеслав Иванов, который не мог принять революцию как культурную tabula rasa, перешел из православия в католицизм. А за сто лет до Иванова его предшественник на этом пути, Чаадаев, говорил о культурном бремени, которое несет Европа и от которого свободна Россия. В конце концов Чаадаев и особенно Герцен усмотрели в этой «неотягощенности» бременем культуры подтверждение мессианского предназначения России {731}.