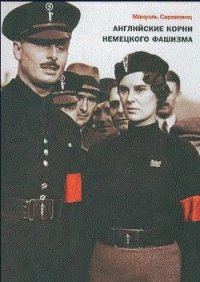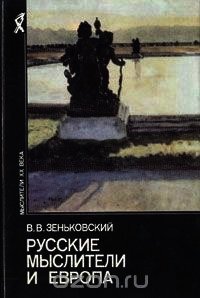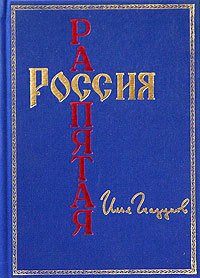Россия и мессианизм. К «русской идее» Н. А. Бердяева - Саркисянц Мануэль (читать книги онлайн без .txt) 📗
У Ленина действительно были все основания сказать Горькому, что самым удивительным во всей этой истории казалось ему то, что их до сих пор еще не прикончили {696}.
Н. А. Бердяев утверждал, что борьба большевиков за власть оказалась столь «легка» потому, что те, кто управлял Россией, сами не были абсолютно убеждены в святости собственности, власти и права наслаждаться жизнью, чтобы отстаивать их всеми своими силами {697}. Сходные воззрения выражал и А. Ф. Керенский и М. Шелер {698}. Бердяев пошел еще дальше: по его мнению, в России вообще не было истинно ожесточенной борьбы в защиту собственности и привилегий.
Н. О. Лосский заключал: «…Среди европейцев бедный никогда не смотрит на богатого без зависти, среди русских богатый часто смотрит на бедного со стыдом» {699}. Во время полемики между представителями народничества и марксизма высказывались подобные наблюдения: «…Российский человек, если он не лишен нравственных запросов, как-то стесняется… владеть и пользоваться своим достоянием» {700}.
В противоположность идее классовой борьбы выдвигался тезис о том, что уважения и преклонения заслуживает только то общественно-политическое движение, в котором «барин жертвует своим личным счастьем и классовыми интересами», в котором присутствует социальная скорбь, представление о том, что «на каждом человеке лежит обязанность… искоренять зло мира», а «личное счастье или преступно или… пошло» {701}. Пошлость вызывала отвращение особенно в период выступлений русского студенчества. После 1906 года последовала целая эпидемия самоубийсть среди студентов. Причиной, побудившей их свести счеты с жизнью была убежденность в том, что России «не нужны те, кто через 20 лет станут мещанами» {702}. Они не видели другого способа выразить свой протест против марксистской «добавочной стоимости»: ведь если все вокруг пользуются ею, то, следовательно, несут за это ответственность, и жизнь, не отягощенная социальной виной, оказывается попросту невозможна {703}.
В радости жизни видели нечто «суетное, унижающее человеческое достоинство, присущее лишь пошлому филистерству — если не положительно преступное… когда вокруг… столько… горя, слез» {704}. Михайловский, будучи теоретиком народничества, напоминал, что стремление к личной нравственной чистоте известно с давних пор; что же касается чувства личной ответственности-вины человека за свое социальное положение, то это — новая русская тема {705}.
Вместе с тем политический пафос, столь характерный для поэзии Некрасова, воспевавшего харизму страданий народных и смирения, и создавшего настоящие гимны той социальной печали, что определила духовный облик русской интеллигенции, также был обусловлен внутренним конфликтом, который поэт переживал остро: коллизией между трагической темой, завладевшей его чувствами, с одной стороны, и его собственной жизнью в роскоши — в результате популярности его лирики скорби — с другой. Но и в тех случаях, когда единственной привилегией человека была возможность получить образование, народник считал себя обязанным заплатить после этого долг народу и принять венец мученика {706}.
Писатель-народник, «литературный схимник», Глеб Успенский, в конце жизни впавший в своеобразный род религиозной мании и добровольно отвергший беллетристический успех, чтобы отдаться мольбе за счастье народное, со скрупулезностью социолога описал многочисленные конкретные примеры отказа от всякого рода социальных и экономических преимуществ — отказа, обусловленного чувством вины. Например, он описал случай, когда даже жандармский офицер, мучивший политического арестанта, не смог вынести страданий беззащитного человека, отказался ото всех материальных благ и нищим отправился странствовать ради искупления своей вины {707}. (Такое раскаяние никогда не приписывалось ежовским наркомвнудельцам или душегубам из «западных развитых» стран. Публичное самообвинение пытавших мучителей имело место в слаборазвитой, православной Греции и в католической Аргентине…)
Как показала Н. Городецкая, подобными примерами изобилует и классическая русская литература {708}, в которой видели «призыв к подвигу и неприятие мира» {709}. В России идеалы «человека домарксистского» не привязывали его ни к собственности, ни к семье. Василий Розанов прямо жаловался на то, что не в семье выражали любовь «русские всечеловеки» {710}. В русской литературе не встретить восторгов и умиления по поводу семейного счастья (как показывал Герцен в романе «Кто виноват») подобных тем, которые так легко обнаружить у английских классиков: своего Диккенса в России не нашлось [61].
«Ни у одного из… великой плеяды [русских писателей — М. С.] [18]40-ых годов вы не найдете счастливой развязки, которой не брезгают… такие… как Диккенс», — напоминал Венгеров. В русской классической литературе не найти и по-настоящему убедительного изображения счастливой любви, не говоря уже о «преуспеянии» или «житейском благополучии». Вся домарксистская русская литература, пожалуй, так и не создала ни одного типа «идеального» приобретателя или «благополучного россиянина», вообще ни одного человека действия. Если же такие попытки предпринимались, то в результате выходила карикатура [62].
Среди интеллигенции, особенно в 1870-е годы, «в атмосфере, насыщенной порывами к самопожертвованию и аскетическим отказом от благ мира сего… мещанское счастье было прямо каким-то ругательным словом». «Реалист» Писемский показал, сколько мерзости сидит как раз «в… порядочном человеке» — т. е., собственно говоря, в типах, пробивающих себе «дорогу в жизни», типах, которые так часто выводились в качестве положительных героев западных литератур. Социальная критика в светской литературе западных стран уже давно не выражалась в виде социальной скорби, как стремление к уходу, бегству от мира зла.
Венгеров высказал достаточно резкое суждение о том, что за немногими исключениями вся русская литература, начиная с Гоголя, была прямым оплевыванием жизни высших классов {711}. Литература — созданная интеллигенцией — была именно такой, потому что, как напоминал Сергей Булгаков, интеллигенция была разновидностью аристократии, противопоставлявшей себя обывателю {712}. С точки зрения обывателя все это представлялось ненормальным, оно не выполняет норму, — и не только потому, что «идеалы интеллигенции пронизаны кодексом юродивых» (по-английски юродивый звучит как «holy fool», буквально — «святой глупец»). В книге под заглавием «Понимать Россию. Святой глупец в русской культуре» польско-американская «специалистка» напоминала, что эти юродивые были и «актеры» с «мудростью идиотов», и «кретины», заразившие своим мировоззрением русскую интеллигенцию {713}. Ибо «героическим и аскетическим характером, стремлением к „подвигу доблестному“ была сплошь заражена вся [послегоголевская и домарксистская — М. С.] литература» России. Как отмечал Венгеров, русская литература перестала улыбаться, поглощенная неустанной борьбой за Правду-справедливость, призывами к подвигу и уходу от зла мира. «Великая Печаль литературы русской… с заунывной песнью… с стремлением простого народа к Матери Пустыни была не только печалью, но и Печалованием». Венгеров приходил к заключению, что «все крупные деятели русской литературы были художниками-проповедниками» {714}. Косвенно это было продолжением допетровской традиции, сохранившейся в народе [63] {715}.