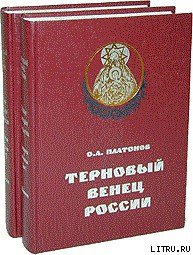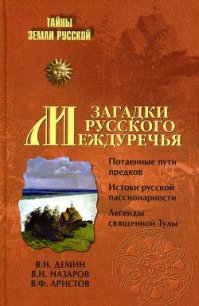Речи немых. Повседневная жизнь русского крестьянства в XX веке - Бердинских Виктор Арсентьевич (читать книги полностью TXT) 📗
Меня призвали в январе 1942 года, и попал я в Казанское пулеметно-минометное училище, а затем перевели в Подмосковье. В октябре 1942 года закончил училище со званием лейтенанта и направлен был на Западный фронт. В феврале 1943 года был тяжело ранен. До октября 1943 года лежал в московском госпитале, после излечения был дан отпуск на три месяца. Прошел комиссию в Свердловске и был признан инвалидом III группы. Уволили в запас с последующим назначением военруком средней школы.
Дни на войне все и для всех были тяжелые. Их нельзя отличить от менее тяжелых. Самое большое желание было досыта поесть. Во время больших переходов, когда кончались запасы, варили и ели мясо убитых лошадей, приходилось и не есть ничего по три дня. От голода и усталости спали на ходу. Самое страшное, жуткое для меня до сих пор воспоминание о раненых лошадях. Они выбегали из леса, ржали, а за ними волоклись их кишки. Они бежали, беспомощные, а мы ничем не могли им помочь. Жутко от такого до сих пор.
Часто вспоминаются и бомбежки. Оказывается, страшный звук от них просто нельзя никак описать. Очень жуткий вой, и очень от него хотелось зарыться в землю, поглубже зарыться, только бы не видать, что летит с неба, и не слышать этот звук.
На войне каждый день страшный. Нельзя сказать, что кому-то было не страшно. Если кто-то так скажет, это он врет. Просто одни могли победить этот страх, а другие нет. Поэтому многие дезертировали. Но страшно было всем. С каждым годом все тяжелее и тяжелее вспоминать те военные годы. Хочется все это забыть, а не получается.
«Страха не было»
Тутубалин Кирилл Степанович, 1915 год, служащий
Страха особого я сначала не ощущал. Страха как такового не было. Впервые почувствовал, когда подбили мой танк, и танк горел, и надо было спасаться всему экипажу, а кругом немцы. Было страшно попасть в плен к немцам, и мы с большим трудом выбрались из танка и отбивались личным оружием и гранатами. У каждого солдата в кармане была отдельная граната, которой можно было бы подорваться, чтобы не попасть в плен. Но до этого не дошло. Мы пробились до своих войск.
Было и такое во время войны. По бокам танка, кто знает, есть бочки, в которые подается газ. Это, по существу, большие дымовые шашки. В этот бак попал осколок, а командиром танка был молоденький лейтенант. Он не разобрался, подумал, что танк горит, а сгореть в танке ничего не стоит, и отдал приказ экипажу покинуть танк. Они вышли к своим. А технику ведь проверяют после боя. Смотрят, стоит танк, без царапины. Завели — поехал. Лейтенанта — к расстрелу, экипаж — в штрафбат за трусость! Никто и разбираться не стал, что ошибка нечаянно произошла.
«Плакали друг о друге»
Трушков Михаил Дмитриевич, 1921 год, г. Иркутск, в годы войны командир отдельной штрафной роты, служащий
Быта не было, отдыха не было. Все жили в землянках. Бывало, до 18 суток сидели в снегу. В землянке сидели с коптилкой: в гильзу наливали керосин и клали тряпочки как фитиль. Домов нигде не было. Руками, саперными лопатками откапывали землю и делали шалаш.
Очень плохо везде и всюду было. Дети и старики голодали. Их в основном эвакуировали от линии фронта на шестьдесят километров. Все были тогда друзьями и товарищами в армии. Плакали друг о друге. Была огромная сплоченность. Почти везде висели лозунги: «Наше дело правое! Победа будет за нами!» Я никогда этот лозунг не забуду.
Очень большая была ненависть людей к захватчикам. Помню, вот после освобождения города Могилева было много пленных немцев. Люди, увидевшие их, побежали к ним и стали бить, особенно женщины. А у самих большие горькие слезы на глазах.
Однажды связистка привела двух пленных. И командир дивизии не выдержал, самолично зарубил их. А сделал он это потому, что у него гитлеровцы убили всю семью — жену и двоих сынишек.
Был у меня в роте шестилетний Сережка. Деревню его всю сожгли, а он убежал. Взяли его в часть, и он у нас был как сын полка. Звал он меня папка-капитан. Дисциплина вот за счет его была очень хорошая. Спал он всегда со мной. Когда мы его отправили в суворовское училище, никак не соглашался, плакал — повесился на шею и не отпускает. Учился в суворовском училище в Москве. Письма писал. А однажды прислал мне нож и написал на нем: «Зарежь немца!»
Помню еще, как на реке Проне я попал будто в плен, а еще и сам пленного взял. Это было как раз в Рождество. Мы наступали. По команде ворвались в немецкие траншеи, а немцы там все пьяные. Недалеко был блиндаж. Зашел я туда с товарищем, а там немец сидит у радиоаппаратуры. Мы его убили, а рацию расстреляли. Иду, значит, по траншее, и вдруг на меня сразу четверо фрицев напали. Не совладал я с четверыми. Они меня топтали ногами. Потом подняли и повели как пленного. Вели-вели, а потом я оглянулся — а их оставалось только двое. Не знаю, куда двое делись. Я тогда перепрыгнул через приступки и выстрелил в одного немца (у меня оставался не замеченный ими пистолет). Другого под пистолетом я привел к своим, и шли мы через минное поле. А в роте меня уже искали. Когда допрашивали немца, я видел Рокоссовского. И когда переводчик переводил рассказ немца о том, как он взял меня в плен, а в результате сам в плену оказался, Рокоссовский очень смеялся. После этого случая я отдыхал восемнадцать суток.
«Авиация работала нахально»
Сметанин Кирилл Николаевич, 1910 год, дер. Скородумка, шофер
Работать начал с тринадцати лет. Жил сначала в единоличном хозяйстве. До 1929 года занимался смолокурением. Когда организовались колхозы, пошел туда. Я работал на нефтяном двигателе, давали свет на завод и качали воду в холодильники.
В июле 1939 года меня мобилизовали на Халхин-Гол в Монголию. Там развивались военные события. Потом нас перебросили оттуда в Финляндию. В мае 1940 года пришел домой и снова стал работать в колхозе. 7 июля 1941 года ушел на Великую Отечественную войну, был в отдельном зенитном артиллерийском дивизионе шофером. Сначала мы стояли под Великими Луками. Около года ездили так, без оружия. Однажды мы отступали, и под одной станцией нам сказали, что пойдут танки. Дали бутылки с горючей смесью. Мы просидели в окопах три дня, все ждали. На наше счастье, танки не пошли.
Когда пошли в наступление, мы наконец получили оружие, и нас причислили к штабу фронта. И штаб фронта отправлял нас на прикрытие тех дивизий, которые шли в наступление. Так мы шли вместе со всей армией из Калининской области через Смоленскую, потом Белоруссию на Варшаву и Штеттин. Дальше мы в Германию не ходили. Домой пришел в ноябре 1945 года. Снова стал работать в колхозе, теперь уже кузнецом. Ну и всяко делал, что приходилось. На пенсию вышел в семьдесят один год, но работал и после пенсии до 1984 года.
На фронте было и голодно, было и хорошо. По-всякому приходилось. А отдых был, когда дивизию сильно потреплют. Тогда нас отводили в тыл, где мы ремонтировали технику, приходило пополнение. За один налет наша батарея расстреливала по две машины снарядов. А у нас на батарее было три машины.
В 1941 — начале 1942 года немецкая авиация работала нахально, потому что зениток было мало, их мало отпугивали. А когда зенитных средств стало больше, они стали летать выше, и не было такой точности, и опасаться они стали больше. Наши орудия таскали трактора, и поэтому мы передвигались очень медленно. Когда Минск брали окружением, мы отстали от армии и никак не могли ее догнать. В этих местах одиночные машины не пускали, немцы ловили их, им нужны были продукты. А потом, когда немцы-окруженцы поняли, что им ничего не сделать, они сами выходили на посты: «Рус, плен» — и сдавались. Мы не ждали от немцев мира, а только думали, когда же мы их до Берлина догоним и разобьем.
Все дни войны тяжелые. В любое время могли ранить, убить, и кто его знает, как меня пронесло. Людей ведь и в тылу много убивало. Был такой случай. Отправили нас со старшиной Пацюком на продовольственный склад, это совсем почти в тылу. Старшине надо было в деревню, где был склад. Все машины и повозки замаскировали в ивняке, а я решил завезти старшину в деревню и выехал на бугор. Зачем, думаю, маскироваться, это же тыл. Вдруг видим два самолета. И откуда они взялись, непонятно. Идут эти два бомбардировщика немецких над железной дорогой, над эшелоном с нашими солдатами. Поезд остановился напротив того места, где машины замаскировались. Солдаты бросились в кусты, а старшина Пацюк остался. Я, говорит, буду по немцам стрелять. Вижу я, самолет прямо над моей машиной бомбу сбросил, но ее в овраг утянуло. Пробило кабину и кузов, хорошо хоть мотору ничего не сделалось. Когда самолеты улетели, я вышел из кустов, и мы поехали. Поезд и железная дорога остались целы. Зато в кустах повозки, машины — все было разбито вдребезги. По деревьям клочья шинелей, куски мяса. Это было очень страшно. Я сам по сей день удивляюсь, зачем мне тогда понадобилось лезть на ту гору, буксовать, чтобы подвезти старшину в деревню. Ведь он меня об этом не просил. Но вот — случай спас. Конечно, если бы тогда в поезде была обстрелянная часть, все было бы по-другому. С поездом ехали два пулеметчика, и, если бы они не растерялись, а самолеты шли очень низко, они вполне могли бы их сбить. Самолеты стреляли даже не по поезду, а по кустам. Но это была необстрелянная часть, они впервые ехали на фронт, и погибло много людей.