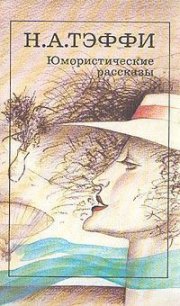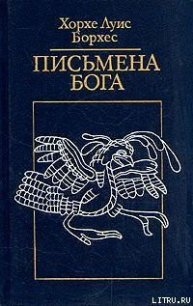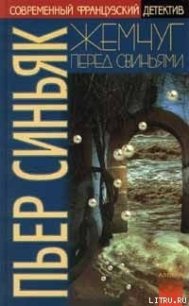Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер (читать полностью книгу без регистрации .txt, .fb2) 📗
Стыд писателя и неизбежное следствие этого стыда — гордыня, связанная с осознанием собственной уникальности, — перекликается со стыдом незаконнорожденного: ощущение ненужности, открытие, что ты зависишь от кого-то, вписан в структуру мира, и одновременно один, лишен чьей-либо любви. И прежде всего исключен из семьи, или из общины. Или же, подобно Бодлеру, внезапно отлучен от матери (вышедшей замуж вторично за генерала Опика) и отправлен в пансион. «Он со стыдом обнаружил свою сирость, — пишет Сартр, — обнаружил, что его существование дано ему просто так»[89]. С тех пор он чувствовал себя под взглядом генерала Опика и под надзором семейного совета. И в то же время одиноким, безвозвратно одиноким. Это состояние можно было бы назвать «синдромом генерала Опика».
Гомбрович I, или Стыд начинающего писателя
Итак, вы наконец доверили свою рукопись некоему X, с которым вас не связывают никакие родственные отношения: вы интуитивно поняли, насколько важно избегать семейного круга, чтобы получить право проникнуть в волшебные сферы литературы. Но вы прекрасно знаете, что на этом трудности еще не кончились. Мистер X, прежде чем вы торжественно разъяснили ему важность своего поступка, наверняка уже прочел на вашем лице следы неловкости. Вот вы даете ему советы по части благоразумия. Вы слышите, как говорите ему: не показывайте это никому, я хочу знать, что вы, именно вы думаете об этом. Все ваши слова сводятся к тому, чего вы не говорите вслух: рукопись — это я. Не потеряйте меня, не бросайте меня где попало, не выставляйте меня под нескромные взгляды — как если бы ваш текст лежал всеми буквами наружу.
Что это — игры нарциссизма? неуместная гордыня? Не только. Отправить кому-нибудь письменное произведение означает обнажить себя. Дать рукопись на прочтение первому читателю — поступок, который делает писателя жертвой стыда, непристойности, сомнений. Кому, как не издателям, знать это, ведь они призваны служить связующим звеном между циркуляцией рукописей внутри более-менее своей среды и будущей публикацией, они непосредственно соприкасаются с муками писателя, его капризами, паранойей и фобиями. Причины подозрительности автора — одновременно гордыня и самоуничижение. Другой человек, читая меня, читая, в сущности говоря. мои недостатки, подтверждает существование первого типа стыда, стыда за себя — пешку в своих собственных руках. Он также возвещает и второй тип стыда, стыд за все остальные мои «я», подкарауливая мое поражение и мои недостатки.
Попробуем описать новые раунды этой борьбы дебютанта против писательского призвания и смеси стыда и гордыни. Восстановим путь, который обычно проходит самая первая рукопись, начиная с ранних опытов молодого писателя, который дает прочитать свои произведения. С этой точки зрения образцовым сюжетом представляется непреодолимый стыд Витольда Гомбровича по отношению к занятиям высокой литературой.
* * *
Гомбрович говорил, что разделял со своими братьями чрезмерное «чувство смешного», избыток иронии и сарказма, убивавший «любой непосредственный порыв». И ничего удивительного, что, когда он показал свои первые писательские опыты старшему брату Янушу, тот высказался прямо:
«— Какой ужас, — сказал Януш. — Выброси эти листки, ведь они покроют тебя позором, не говори никому, что ты запятнал себя, написав подобные вещи, а в будущем постарайся найти себе другое занятие.
— Ты бы лучше побольше охотился, — добавила моя свояченица Пифинка.
В глубине души я признавал их правоту. Я сжег свое сочинение и вернулся к социологии».
Итак, поначалу юный Витольд отказался от писательства и вновь погрузился в изучение социологии: он отступил. Потом он воспротивился и стал вынашивать замысел романа. Это была история бухгалтера, над которой, как Гомбрович впоследствии рассказывал в «Воспоминаниях», он работал «усерднее, чем кучер или повар». Тем не менее его постоянно мучили сомнения: если писательство и заставляло его страдать, то этого было недостаточно, чтобы облегчить его совесть или внушить ему должное уважение к столь тяжелому занятию. Ему понадобилось еще несколько лет подспудного вызревания, или, скорее, какой сам говорил, «незрелости», чтобы действительно войти в литературу.
Теперь писательство стало «ясной и выверенной работой, нацеленной на конкретный результат». Свои короткие произведения, новеллы, он решительно собирался сжечь, если бы они провалились, и начать писать что-нибудь другое. Но они не провалились, напротив: это были его первые произведения, уже очень оригинальные. И тем не менее, когда они были закончены, Гомбрович на этот раз не хотел их никому показывать: «Мне было стыдно. […] Писательская работа казалась мне немного смешной — быть человеком искусства, поэтом, какая бестактность! А первые шаги молодого человека, развивающего свои мысли, были, на мой взгляд, обречены на несмываемое осуждение».
Хранить свои первые рукописи в столе — в этом Гомбрович был не одинок. Что в нем более уникально, так это то, что травма первого опыта и страх поражения внушили ему желание выиграть время. В примерно двадцатилетием возрасте он решил сознательно написать роман, который был бы «плохим», выплеснуть в книге то, что в нем самом было «плохого, постыдного, непристойного». Перепечатанный на машинке экземпляр этого романа он дал почитать одной даме, которой доверял и которая верила в него. Дама прочитала, вернула Гомбровичу текст без единого слова и отказалась когда-либо в будущем его видеть. Охваченный паникой, Гомбрович бросил роман в огонь. Впоследствии, сорок лет спустя, он, однако, спрашивал себя, не был ли это самый дерзкий его проект.
Когда же он наконец представил редактору сборник своих первых новелл (объединенных под заглавием «Воспоминания о временах незрелости»), он делал это еще, как он вспоминал, «со стыдом». Само название отражает отношение автора к своим собственным произведениям. «Я тогда очень стыдился писать, я скрывался, прятал свои бумаги, когда кто-нибудь входил в мою комнату, и до сих пор нахальство начинающих писателей, это их „я — поэт“ беспокоит меня так же, как рисовка, достойная павлина, во всю ширь распустившего свой хвост, демонстрируемая такими признанными поэтами, как Кокто или Арагон со своей Эльзой».
В то же время Гомбрович еще не окончательно отказался от попыток вымолить у членов своей семьи хоть крупицу понимания. Когда вышла его первая книга, он очень хотел показать ее родным. Новое унижение: вокруг него замешательство и молчание. Близкие определенно оказались безучастны. «Я предполагаю, что, если бы я вступил в балетную труппу и принялся полуголым скакать перед публикой, моя семья растерялась бы не больше. Именно это называют „почтенным семейством“, спрашивающим себя, за какие грехи оно оказалось подвергнуто такому стыду».
Этот инцидент автор излагает постфактум в «Воспоминаниях о Польше»; но как же молодой человек пережил это неразрешимое противоречие между собственным бунтом и стремлением к признанию среди родственников? С самых первых своих сочинений он наталкивался на польский конформизм. В его «Воспоминаниях» не содержалось никаких откровенностей касательно близких, и если автор и представал в них обнаженным, то только очень аллегорически. Жанровое несоответствие, непокорность тому, что Гомбрович впоследствии называл «формой», «стилем» (то есть эстетикой, пришедшей извне и всеми признаваемой), — вот что вызвало непонимание, а вовсе не содержание раскрытых тайн.
Так для чего же упрямо цепляться за близкое окружение, за тех. кто со своих позиций менее всего способен воспринять что-либо из выступлений, обращенных к ним спиной? Стыд приходит к юному автору не извне. Гомбрович его уже интериоризировал. Он сам глубоко ощущает беспокойство, которое царит вокруг. Он его предвидит: «Мне было не по себе, когда я вручал еще теплый, только что из-под пресса экземпляр своему почтенному семейству». Никакой заносчивости, никаких провокаций. Витольд по-прежнему вполне хороший мальчик. Он выпрашивает. Он не хочет становиться писателем тайком. «Я, со своей стороны, прекрасно их понимал и испытывал при виде этой проклятой книги точно такой же стыд, превращавший меня в жертву моего читателя. Но я знал, что через это надо пройти… На тот момент я уже слишком долго жил в искусственном уединении, нужно было показать, кто я есть!»