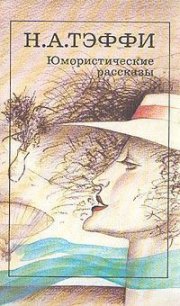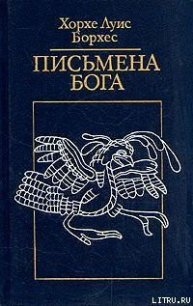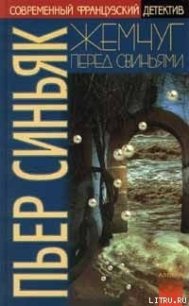Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер (читать полностью книгу без регистрации .txt, .fb2) 📗
Уже в детстве вы хотели стать писателем. Вы торопливо черкали, списывали, подражали, зачеркивали, переписывали начисто, исправляли. Вы более или менее долго хранили свои сочинения в столе. В один прекрасный день вы доверили одно из них, с бесконечными предосторожностями, близкому человеку, с опаской ожидая услышать его мнение. Некоторое время спустя вы отважились отправить одну из рукописей, а потом и другие, возможно тысячу раз, издателям. При этом, прежде чем ваши книги появятся наконец на витринах книжных магазинов, вам придется преодолеть множество препятствий. Вы успеете побывать во власти противоречивых чувств — то внезапного нетерпения явить себя миру, то желания закрыться в своей скорлупе, отгородившись от остальных. Затем вам даже случится, на этот раз уже слишком поздно, пожалеть о том, что вы горячо желали опубликовать.
Нет ли в этом побуждении, толкающем вас писать и затем печатать — черными буквами по белому листу, — в этой бесконечной задаче, выполнение которой постоянно контролируется и которая, как кажется, заканчивается с публикацией (но это иллюзия), — не прослеживается ли здесь непрерывного следа необъяснимой тайны? Постоянного желания что-нибудь вычеркнуть? Тоски по отныне недоступному вымарыванию?
По сомнениям, которые вы испытываете в отношении своего текста, по неразрывным связям, которые вас с ним соединяют, по своим сожалениям и уловкам вы понимаете, что ваше предприятие подспудно управляется постыдными мотивами: вы не стали бы внимательнее к содержанию письменного слова, если бы сочиняли признание в грехах или объяснение в любви. В обоих случаях схожим образом проступают стремление к любви, желание и нетерпение явить себя другому (который заключен прежде всего в вас самих), и в то же время вырисовываются потребность в адресате, осознание собственного превращения в объект (хотя вы хотели быть субъектом), стыд от встречи лицом к лицу и от потери лица при этой встрече. «Письмо отцу» Кафки — действительно адресованное отцу и одновременно являющееся открытым письмом — образец всего этого. Но так ли оно отличается по своему замыслу от рассказа, озаглавленного «Сельский врач»? Этот рассказ был предназначен для публикации, но как раз тоже посвяшен отцу. Франц, которому не терпелось узнать мнение отца, отнес ему рассказ. «Положи его на ночной столик», — ответил отец. Эти слова (которые он часто повторял) навсегда остались запечатленными в памяти юноши.
Сколько вы всего накопите, столько же и отвергнете, сожжете, уничтожите. Опечатки заставят вас краснеть. Юношеские писания — вздрагивать. Колебания заставят вас отступать. Стыд относителен, бесстыдство имеет границы. Неожиданный прием обеспокоит вас. Вы бы предпочли — поскольку противоречий уже хватает, — чтобы написанное вами, будучи издано, осталось никому не известным, с одним, однако, условием: пусть эта неизвестность добавит вам славы.
Казалось бы, вам удалось спутать карты, напустить дыму, сыграть с читателем в прятки. Если вы вышли в открытое море, то для того, чтобы никогда больше не возвращаться в порт. Вы были хозяином положения. По крайней мере, верили в это.
Видимо, поэтому вы так настаиваете на том, чтобы ваши заветы не нарушались.
Но уже сейчас, при вашей жизни, они сами себя нарушают! Они никогда не были определенными, эти заветы, они изменялись с возрастом, настроением, с течением времени. Вы беспокоились о своем будущем, об обнажении, которое не предусмотрели. Настолько, что беспрестанно добавляли к своему завещанию поправки, вносили в договор новые пункты, терзаясь до самой смерти этими писательскими заботами. Вы, по-видимому, стремились к невозможному — получить читателя на побегушках, наследника у ваших ног, — предчувствуя, как все это понемногу от вас ускользает и как другие уже переделывают вас по своему вкусу.
Тогда вы представили себе, что можете упокоиться в мире, удалившись в рай для писателей, на прочном ложе книги, с которой вы наконец можете смириться. А вы вместе с другими оказываетесь в круге ала, вас публично щекочут и колют вилами чертенята, преследуя своими нескромными вопросами по указке неблагодарных потомков.
Вы, дорогой Пруст, сделаете вид, будто это случайность (спрашивает ваш — уже посмертный — читатель), что с такого мятежника, как вы, срываю покровы я — «которого мы обнаруживаем в наших привычках, в обществе, в наших пороках», — при том что вы, однако, сами выдумали этого человека, который говорит «я» и утверждает, что любит некую Альбертину, а также самых разных персонажей вокруг себя, евреев и гомосексуалистов, рассеянных по ткани вымысла, на которой ваша личность, Марсель, выглядит как рисунок на ковре? А вы, дорогая Эдит Уортон (которой, кстати, восхищался Марсель), почему, скажите мне, почему вам понадобилось написать автобиографию с целью, как вы сами говорите, заставить молчать всех будущих биографов, — в которой вам к тому же удалось скрыть единственное страстное приключение, которое было в вашей жизни, — в то время как ваш друг Генри Джеймс (завидовавший вашим успехам и обеспокоенный за будущие поколения) заботился о том, чтобы лишить запала несдержанных рассказчиков? Скажите мне, Робер Пенже, вы, один из самых скрытных писателей ушедшего века, почему именно вы стали романистом слуха, сплетен, молвы? И не вправе ли мы, дорогая Натали Саррот, чьи книги прятали во время войны, задуматься о том, как вы относились к своему еврейскому происхождению, о котором вам удалось умолчать даже в вашей единственной автобиографической книге, в «Детстве» — которая, кажется, скрывает еще больше тайн, чем вы ей доверили? А вы, Маргерит Юрсенар, почему вы так стремились, тщательно разбирая личные документы, облагородить свою посмертную память? Что же до вас, восхитительный Франц Кафка, столь щепетильный в том. что касается ваших незаконченных творений и их будущей публикации, ведь вы так заботились об их исчезновении, — почему вы не сожгли их?
Вы практически единодушны. Критики? Это паразиты. Биографы? Пожиратели трупов. Такое единодушие подозрительно. Иногда хочется спросить, не будут ли и читатели для вас незваными гостями. Поскольку созданное вами, думаете вы, есть ваша неотчуждаемая собственность. И требуете вечного права собственности. Но в таком случае стоило ли вообще начинать выносить свои сочинения на публику?
Вы не сумели верно оценить положение, которое вдруг стало вашим уделом. Сначала — имя автора, написанное сверху заглавия на обложке: ваша фамилия или псевдоним, не суть важно. Это присутствие уже было непристойно. Предоставляя нам, таким образом, открытое доказательство того, что эта книга, этот набор слов, более или менее замаскированный, — все это вы, вы в то же время немало беспокоились о своей репутации. И теперь хотите сказать, что в один прекрасный день, при случае, сможете отречься от книги, как от блудного сына?
Вам так понравилась эта возможность надежно, раз и навсегда, приковать наконец к себе взгляд другого. В то время как этот другой, читатель, удивительно свободный и своенравный, нескромный, глупо любопытный до всего, уже составлял себе ваш портрет, распространял его и воспроизводил, так что портрет начал от вас ускользать и вернулся к вам в виде товарного знака. Ему, этому читателю, недостает утонченности. Он будет окликать вас даже в могиле. Он будет возвращать вас к жизни, к своей и к вашей. Точно так же, как ваша гордость есть ничто без возможности позора, ваша писательская слава никуда не годится без добавки его любопытства.
Признайте же это противоречие произносимого и непроизнесенного, это беспокойство, неотъемлемо присущее литературному слову, эти запутанные и недоговоренные признания — всего этого достаточно, чтобы нас заинтересовать. Но кто избавит нас от желания понять?
«Попытка ускользнуть из сферы отцовского»
Начинающему писателю со всех сторон угрожает давление тщеславия. Внушающая робость когорта великих писателей прошлого настойчиво призывает его замкнуться в чтении и восхищении. Всемирная библиотека давит на него всем своим весом. Великие образцы предписывают ему молчать (например, человек действия, стремящийся ответить на вызов Истории, мудрец, не делающий уступок печатному слову, а также святой, достойный восхищения за свое молчание[87]). И как будто этих препятствий недостаточно, его стремится поразить внутренний враг — его собственное ироническое и скептическое «я». Георг Артур Гольдшмидт писал об «изначальном парадоксе становления любого сочинительства»: оно находится под взглядом «невидимого свидетеля, который стоит за вашей спиной и улыбается», готовый объявить смешными все ваши попытки.