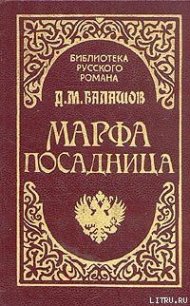Воля и власть - Балашов Дмитрий Михайлович (читать полную версию книги TXT) 📗
Домрачеи, утихнувшие с приходом вдовствующей великой княгини, вновь ударили по струнам. Бояре молча протягивали опруженные чары, и холопы тотчас наполняли их. Отъевши первые перемены, перешли к пирогам. Тут уже поднялся и говор, сперва осторожный, а после все более громкий. О Смоленске уже вызнали все, и все, кто в голос, кто молчаливо, одобряли Олега с Юрием. Софья, чуть побледнев, хранила молчание, сожидала, когда заденут отца. Но у сотрапезующих хватило ума не называть вслух имени Витовта.
Трапеза заканчивалась мирно, и Василий, уже успокоенный, омывши руки под серебряным рукомоем, поднялся к себе. Софья, распустившая косы, и тут не возразила ничего о Смоленске. Вопросила о другом:
– Теперь Семена имать будешь?
– Его и семью! – твердо отмолвил Василий, подставляя ноги молчаливой прислужнице, что стаскивала с его ног булгарские сапоги и тотчас понесла их вытирать и чистить.
– Кого пошлешь-то? – прошала Софья, разглядывая себя в иноземное зеркало и слегка хмурясь.
– Ивана Уду и пошлю! – возразил Василий. – Да Федора Глебовича! Места тамошние ведают тот и другой. С суздальскими князьями пора кончать! Нижний должен достаться нашим детям!
– Нашим, а не князя Юрия? – вопросила, не поворачиваясь к нему, Софья.
Василий посопел. Подумал:
– Иван растет! Даст Бог и еще родишь! – высказал.
Соня вдруг оставила зеркало, подошла, молча обняла его сзади, прижалась щекою к его волосам, проговорила вполгласа:
– Дал бы Бог!
И вновь, как каждый раз, как и прежде, у Василия от любовной молчаливой ласки Сониной словно поплыло все в глазах. И силы, и давишний гнев, и упрямство ушли, растворились. Взял осторожно женины пальцы, прижал к губам.
Она молча, осторожно ласкала Василия, потом, отстранясь, произнесла иным, будничным голосом:
– Смотри! Кирдяпа с Семеном не одни! Еще дети Бориса Кстиныча остались! – Ведала не хуже супруга всю трудноту суздальских и нижегородских дел. Ведала и то, сколь надобен Нижний Москве.
– Я мастера нашел! – высказал, скидывая летник и снимая пояс, Василий. – Нашли мне! – поправил сам себя. – Сербиянина. Часы на башне сотворит! С луною, бают, и с боем, не хуже ляшских! – добавил, заранее гордясь, хотя ни часов, ни мастера еще не видал. Софья улыбнулась про себя, тайно, отворотясь, как улыбалась всегда, обнаруживая, что многомудрый великий князь московский в ином все тот же мальчик, что целовал ее у хлебной скирды на околице Кракова. Такого любила и с таким могла справиться всегда.
За те два десятка лет, что прошли после подлой клятвы под стенами Кремника, позволившей Тохтамышу захватить Москву, князь Семен порядком постарел и устал. Упорная ненависть, горевшая в нем во все прошедшие годы, начинала угасать. А все его менявшиеся степные покровители и господа: Тохтамыш, Темир-Аксак (он и тому служил! И воевал на Кавказе, и даже в Закавказье, в Грузии, мало не добрался и до самого Багдада!), Темир-Кутлук, Идигу, теперь Шадибек, сменявшиеся казанские правители – все не хотели или не могли дать ему главного, ради чего он годами мотался в седле, жертвовал всем, чем мог, рубился с каждым, с кем было велено, все более чуя, что он – наемный раб, послужилец степных владык, что его пускают не дальше порога, ни во что ставя его суздальскую родословную «лествицу», и совсем не считаются с ним, когда доходит до настоящего дела. Что он испытал совсем недавно, приведя в Нижний царевича Ентяка и бессильно взирая на то, как нарушившие присягу татары грабят его родной город, разволакивая женок едва не до нага и одирая оклады с икон… В конце концов, он позорно бежал из Нижнего, проклятый всем городом, не надеясь уже, что ему когда-то впредь поверят и откроют городские ворота.
Таковы были дела, когда московская рать вошла в мордовские осенние леса, разыскивая Семена, будто травленого волка-убийцу, за голову его была назначена награда.
Он уходил, мотался с малом дружины, запутывая следы. Татарская помочь, обещанная ему, запаздывала. А как прояснело потом – и вовсе не пришла! И он кружил лесами, укрывши жену и детей в месте, зовомом Цибрица, куда, надеялся, московиты не сунутся. Надеялся зря. И прознали, и сунулись, и одолели засеки, и перебили – перевязали немногую охрану, тут же разграбив казну и товар.
Александра не сказывала потом, как стояла, прислонясь к стволу старой липы, безнадежно взглядывая на невеликую Никольскую церковь, ставленную тут, в лесу, по преданию бесерменином Хазибабой, уж неведомо ради какой благостыни, и с падающим сердцем следила выпрыгивающих из частолесья с хищным посвистом и реготом московлян. И что казалось страшнее всего даже, что нет, не убьют, а изнасилуют их вместе с дочерью на глазах сына и опозоренных отведут в Москву. О том никогда не признавалась мужу. Ждала, прикрывая от страха глаза, и не чуяла уже, как грубо срывают с нее драгоценные цаты, как делят, ругаясь, порты и узорочье, только разорванный ворот сжимая рукой (разорвали, как рвали с шеи янтарь и серебро), все ждала и ждала, уже в забытьи, почти вожделея позора. Не дождалась. Воевода (то был Уда), вывернувшись откуда-то сбоку, строго приказал воинам: «Охолонь!» Роздал своим кметям по связке мехов из захваченной Семеновой казны и, не возвращая, правда, награбленного княгиням, повел их за собою. Дети отчаянно цеплялись за мать, страшась: вот оторвут, отнимут, разомкнувши сведенные персты. Когда посажали на коней, сына Василия, отчаянно вскрикнувшего, отдельно, а их с дочерью на одну лошадь, верхами, безжалостно задравши подол и ноги связав под седлом. Так и скакали, отбивая все внутри. Добро Александра, кочуя с мужем, выучилась в Орде неплохо сидеть на лошади. Вечерами снимали, кормили, давали оправиться, отойдя за кусты, но и здесь караулили – не сбежала б! Отводили ее и дочерь по очереди. Так и везли до Москвы, но хоть стыдно не произошло дорогою! И только уж, когда привезли, когда князь Василий, мельком оглядев полонянок, распорядил поместить их на дворе у боярина Белеута, куда и отвели всех троих, не стряпая, и где наконец дали вымыться в большом корыте с горячей водой, переодеть пропахшие потом, калом и конем, завшивевшие сорочки, и после всего того накормили за господским столом боярскою трапезой, тогда лишь отпустило внутри и в горнице, уступленной ей с дочерью, упала на постель и жарко и безнадежно заплакала. Плакала, вздрагивала в рыданьях, молча винясь перед мужем своим, что не выдержала, не сумела уйти, сокрыться, убежать или умереть, погинуть, давая московитам теперь право требовать сдачи князя Семена в полон.
Семен, узнавши, что княгиня его и дети, и казна попали в руки врагов, выдержал недолго, вскоре прислал челобитную Василию, прося опаса, и когда опас был ему даден, приехал сам. Василий пожелал лично встретить сломленного ворога своего. Узрел седые заплешивевшие виски, потухший взор, услышал сухой болезненный кашель больного князя. Смягчился, раздумав отсылать Семена в монастырь, и приказал отослать на Вятку, под тамошний надзор, с княгинею и детьми. И уже было нечем жить, и незачем жить. Через пять месяцев, впавши в «большой недуг», месяца декабря в двадцать первый день тысяча четыреста второго года от Рождества Христова Семен умер, так и не добыв, ни себе, ни потомкам своим захваченные московитом Суздаль, Нижний Новгород и Городец. Но то было уже потом, уже через лето после того, как Юрий Святославич занял Смоленск, а Витовт тою же осенью приходил под Смоленск ратью, разграбил волость, но града не взял, паки отступив, но отнюдь не отказавшись выбить Юрия Святославича из Смоленска, по пословице: не мытьем, так катаньем. Тем паче, в городе за время литовской осады начались голод и мор, а жестокости князя Юрия отвратили от него многих недавних доброхотов.
В ту и последующую осени небо тревожили грозные знамения. 29 октября 1401 лета затмило солнце, а в начале другоряднего года, в марте, на небе явилась звезда, копейным образом восходившая каждую ночь двенадцать дней подряд, а потом невестимо исчезла.