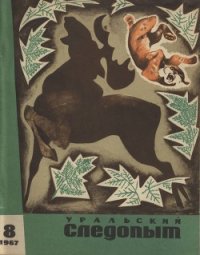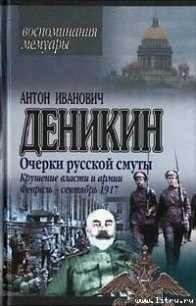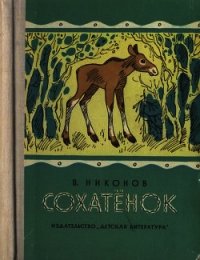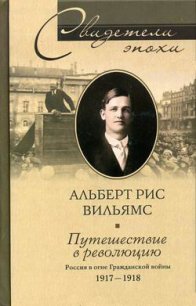Крушение России. 1917 - Никонов Вячеслав (читаем книги онлайн бесплатно полностью .txt, .fb2) 📗
— А кто министры? — раздались голоса из зала.
Милюков начал с премьера, назвав Львова.
— Цензовая общественность, — отозвался зал.
— Цензовая общественность, — нашелся Милюков, — это единственная организованная общественность, которая даст возможность организоваться и другим слоям русской общественности. Но, господа, я счастлив сказать вам, что и общественность не цензовая тоже имеет своего представителя в нашем министерстве. Я только что получил согласие моего товарища А. Ф. Керенского занять пост в первом русском общественном кабинете. Мы бесконечно рады были отдать в верные руки этого общественного деятеля то министерство, в котором он воздаст справедливое воздействие прислужникам старого режима, всем этим Штюрмерам и Сухомлиновым.
Керенский прошел на ура. Куда хуже было дело с Гучковым, фамилия которого вызвала недовольный гул.
— А. И. Гучков был моим политическим врагом в течение всей жизни Государственной думы (крики: «другом!») Но теперь мы политические друзья. Я — старый профессор, привыкший читать лекции, а Гучков — человек действия. И сейчас, когда я в зале говорю с вами, Гучков на улицах столицы организует нашу победу.
Дальше было немного легче. «С аплодисментами прошли всероссийски известные имена вождей думской оппозиции, — напишет Милюков в мемуарах. — Менее известные имена думских оппонентов старого правительства справа по финансовым и церковным вопросам, Годнева и В. Львова, публика проглотила молча. Всего труднее было рекомендовать никому не известного новичка в нашей среде, Терещенко, единственного среди нас «министра-капиталиста» (интересно, к какому слою Милюков относил банкира Гучкова — В. Н.). В каком списке он «въехал» в министерство финансов? Я не знал тогда, что источник был тот же самый, из которого был навязан Керенский, откуда исходил республиканизм нашего Некрасова, откуда вышел и неожиданный радикализм «прогрессистов» Коновалова и Ефремова. Об этом источнике я узнал гораздо позднее событий…» [2296]. Читателю об этом источнике хорошо известно.
— А программа? — справедливо интересуются из аудитории. Вопрос Милюкова явно озадачил.
— Я очень жалею, что… не могу прочесть вам бумажки, на которой изложена эта программа. Но дело в том, что единственный экземпляр программы, обсужденный вчера в длинном ночном совещании с представителями Совета рабочих депутатов, находится сейчас на окончательном рассмотрении их…
Наконец, прозвучал сильно всех возбуждавший вопрос о судьбе династии. Милюков перевел дух перед взволнованной массой с красными бантами и повязками.
— Я знаю наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит… Старый деспот, доведший Россию до границы гибели, добровольно откажется от престола или будет низложен (аплодисменты). Власть перейдет к регенту — великому князю Михаилу Александровичу (продолжительные негодующие крики, возгласы: «Да здравствует республика!», «Долой династию!» Жидкие аплодисменты, заглушенные новым взрывом негодования). Наследником будет Алексей (крики — «это старая династия»)… Как только пройдет опасность и установится прочный мир, мы приступим к подготовке Учредительного Собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Свободно избранное народное представительство решит, кто вернее выразил общее мнение России, мы или наши противники.
«Речь эта была встречена многочисленными слушателями, переполнившими зал, с энтузиазмом, и оратор вынесен на руках по ее окончании» [2297], — скромно заметит Милюков.
После бурной дискуссии вынесенный уединился в правительственном отсеке, где его обнаружил коллега по партии Набоков, которому предлагали то пост губернатора Финляндии, то Управляющего делами правительства. Он оставил весьма характерную зарисовку работы правительства: «По дороге попался нам кн. Г. Е. Львов. Меня поразил его мрачный, унылый вид и усталое выражение глаз. В самой задней комнате я нашел Милюкова, он сидел за какими-то бумагами с пером в руках; как оказалось, он выправлял текст речи, произнесенной им только что… Около него сидела Анна Сергеевна (его жена). Милюков совсем не мог говорить, он потерял голос… Такими же беззвучными, охрипшими голосами говорили Шингарев и Некрасов. В комнатах была разнообразная публика… Керенский поражал какой-то потерей душевного равновесия. Помню один странный его жест. Одет он был, как всегда (т. е. до того, как принял на себя роль «заложника демократии» во временном правительстве): на нем был пиджак, а воротничок рубашки — крахмальный, с загнутыми углами. Он взялся за эти углы и отодрал их, так что получился вместо франтовского какой-то нарочито пролетарский вид… Вести сколько-нибудь систематический разговор с людьми, смертельно усталыми, было невозможно. Пробыв некоторое время, вобрав в себя атмосферу — лихорадочную, сумасшедшую какую-то, — я направился к выходу» [2298].
Тем временем информация о содержании речи Милюкова стала проникать в массы. Идея регентства Михаила вызывала бурю протеста в советских кругах. Керенский свидетельствовал, что на специально созванном заседании Исполкома Совета на него обрушился град враждебных вопросов. «Я решительно воспротивился попыткам втянуть меня в спор и лишь сказал:
— Да, план действительно таков, но ему никогда не дано осуществиться. Это просто невозможно, а потому и нет причин для тревоги…
Вопрос о регентстве ни в малейшей степени не волновал меня, однако внушить другим мою уверенность в неосуществимости этого плана было крайне трудно, а потому в это дело попытался вмешаться Исполнительный комитет. Он вознамерился послать к царю своих делегатов, а в случае неудачи — помешать воспользоваться поездом нашим депутатам» [2299]. Намерение это явно запоздало: Гучков и Шульгин были уже в дороге.
Негативная реакция бунтовавшей толпы на сохранение царствовавшей династии (которая к тому же могла призвать к ответу) всполошила и думское руководство. «Я увидел Родзянко, который рысцой бежал ко мне в сопровождении кучки офицеров, от которых несло запахом вина, — вспоминал Милюков. — Прерывающимся голосом он повторял их слова, что после моих заявлений о династии они не могут вернуться к своим частям. Они требовали, чтобы я отказался от этих слов. Отказаться я, конечно, не мог; но видя поведение Родзянко, который отлично знал, что я говорил не только от своего имени, но и от имени блока, я согласился заявить, что я высказывал свое личное мнение. Я знал особенность Родзянки — теряться в трудных случаях; но такого проявления трусости я до тех пор не наблюдал» [2300].
Заявление Милюкова шокировало не только советскую демократию, но и великих князей. Павел Александрович, сообразив наконец, что его использовали в чужой игре и что идея регентства Михаила не является изобретением графини Брасовой, пишет отчаянное письмо Родзянко: «Как единственный оставшийся в живых сын Царя-Освободителя, обращаюсь к Вам с мольбой, сделать все от Вас зависящее, дабы сохранить конституционный престол Государю… При конституционном правлении и правильном снабжении армии — Государь, несомненно, приведет войска к победе. Я бы приехал к Вам, но мой мотор реквизирован, а силы не позволяют идти пешком». Нет никаких признаков того, что Родзянко отреагировал на письмо дяди императора. Вместо этого он направил весьма четкое послание брату Николая II: «Успокоит страну только отречение от престола в пользу наследника при Вашем регентстве. Прошу Вас повлиять, чтобы это совершилось добровольно, и тогда сразу все успокоится. Я лично сам вишу на волоске и могу быть каждую минуту арестован и повешен. Не делайте никаких шагов и не показывайтесь нигде. Вам не избежать регентства» [2301].