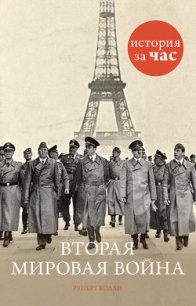«Уродливое детище Версаля» из-за которого произошла Вторая мировая война - Лозунько Сергей (читать книги онлайн полные версии .txt) 📗
Германофобия Клемансо подстегивалась и усиливалась убеждениями французского президента Пуанкаре, о котором Ллойд Джордж скажет, что антигерманизм был «его страстью». Это добавляло Пуанкаре авторитета среди обывателей во Франции, но отрицательно сказывалось на его качествах стратега, способного заглянуть в будущее, ибо эмоции, как известно, — плохой советчик в таких делах. «В условиях, требовавших от государственного деятеля понимания того, что плодами победы следует пользоваться разумно, проявляя снисходительность, Пуанкаре сделал все, чтобы любой французский премьер не имел возможности проявить эти качества. Он не признавал ни компромисса, ни уступок, ни примирения. Он был склонен считать, что поверженная Германия всегда должна оставаться такой», — отметит бывший британский премьер [95].
Понять французов можно — миллионы сынов Франции полегли на фронтах только что завершившейся Первой мировой войны, целые области Франции лежали в разорении после нескольких лет немецкой оккупации и разворачивавшихся на их территории сражений. Добавим к этому исторические обиды и предубеждения (далеко не безосновательные), издревле имевшиеся у французов по отношению к немцам. Но ослепление от ненависти, жажда мести и желание любой ценой ослабить традиционного противника сыграли с представителями Франции злую шутку. С их подачи был заключен несправедливый мир, создана столь же несправедливая Версальская система. Наконец, это же ослепление не позволило французам здраво оценить, какого монстра они создают в виде «великой Польши» — на свою же голову. Пройдет полтора десятилетия, и это рожденное во грехе несправедливости «геополитическое дитя» выйдет из-под контроля и доставит Франции массу хлопот.
Но тогда «французы были одержимы навязчивой идеей, которая отравляла и притупляла их чувство справедливости при разработке мирного договора. Они старались всячески использовать положение, чтобы ослабить потенциальную мощь Германии» [96].
Поствоенные эмоции вкупе с историческими фобиями Франции диктовали вполне определенную военную стратегию этой страны, нацеленную на будущую войну с Германией. А в том, что Германия может быть — единственно и только — врагом Франции, в этом у французских политиков и военных деятелей сомнений не было. «На то, что Германия и Франция когда-нибудь могут стать друзьями, ни один из французских политиков, с которыми я встречался, не рассчитывал», — вспоминал Ллойд Джордж [97]. Получался своего рода замкнутый круг, когда французы, движимые целью отомстить немцам за прошлые исторические обиды, закладывали своими действиями основу для новых, запуская таким образом европейский конфликт на следующий исторический виток.
Мощная Польша, как тогда виделось Франции, соответствует ее военно-стратегическим интересам, ее рассматривали как своего рода «восточный фронт» против Германии.
Франция опасалась превосходства Германии в численности населения, что позволяло немцам в случае войны выставить большее число солдат (в Первую мировую Франция вступила, имея 39,6 млн. чел., Германия — 65 млн., и это без австрийских немцев). Поэтому французские политики всячески содействовали отрыву от Германии территорий, населенных немцами, рассматривая последних с точки зрения мобилизационного ресурса. Чем больше немцев будет оторвано от Германии, рассуждали французы, тем лучше — тем меньшее число германских дивизий появится на фронтах будущей войны.
Опасались французы экономической мощи Германии. Поэтому всячески содействовали — везде, где это было возможно, — передаче немецких территорий со значительным ресурсным и промышленным потенциалом под власть других государств, прежде всего Польши и Чехословакии.
Интересы военной стратегии, как их тогда понимали французы, доминировали над заявленными союзниками принципами мирного урегулирования. Так, маршал Фош требовал, чтобы стратегические соображения предопределяли все решения Мирной конференции по вопросу об установлении границы Германии как на востоке, так и на западе. «Вся Силезия и город Данциг, — настаивал Фош, — должны были быть переданы полякам независимо от желания населения» [98].
Не испытывали французы никаких сомнений и тогда, когда вставал вопрос о включении в состав Польши территорий на востоке — с украинским, белорусским, литовским населением. Ведь это тоже укрепляло их протеже.
Что до расширения Польши на восток, то в те годы вынашивались планы интервенции против Советской России. Например, маршал Фош выдвигал «план широкого наступления на Советскую Россию финнов, эстонцев, латышей, литовцев, поляков, чехов, русских, то есть всех народов, живущих на окраинах России, под военным руководством союзников. Польша должна была стать основной базой этих сил» [99].
Польшу, таким образом, во Франции рассматривали как антисоветский плацдарм, и, соответственно, способствовали расширению этого плацдарма и продвижению его вглубь бывшей российской, а на тот момент — советской территории. Все, что могла оторвать Польша от Советской России, усиливало (военно-стратегически, экономически, демографически) первую и ослабляло вторую.
Наконец, «великую Польшу» рассматривали в качестве мощного «буфера» между Германией и Россией — опасаясь возможного сближения этих стран и образования ими военно-политического континентального альянса. Польша становилась важнейшим звеном санитарного кордона (франц. cordon sanitaire) союзников, даже двух — антигерманского и антисоветского.
Как отметил Ллойд Джордж, воочию наблюдавший усилия французов на указанный счет, «Франция пыталась создать могущественные государства на восточных и южных границах Германии, которые были бы обязаны своим возникновением и своей безопасностью только покровительству Франции. Поэтому создание великой Польши было одним из основных стремлений французской военной стратегии» [100].
Последний тезис следует отметить особо, ибо к нему придется вернуться, когда будем вести речь о 30-х гг. и переходу Польши на прогерманские позиции. Своим образованием — в том виде, в каком она получилась по итогам территориального переустройства на руинах павших империй, Польша действительно была обязана покровительству Франции. Но главное — попадала в зависимость от французской военно-политической поддержки в будущем. Ибо самостоятельно поляки не могли удержать территории, оторванные в их пользу от Германии и России. Польша, таким образом, самой своей природой должна была в дальнейшем проводить профранцузскую внешнеполитическую линию, нацеленную на усиление позиций Франции на континенте, и прежде всего — в отношении Германии как наиболее пострадавшей в ходе передела и более всех движимой идеями реваншизма (в которых имманентно были заложены и территориальные претензии к Польше).
Французы пребывали в уверенности, что движимая чувством благодарности Польша всегда и во всем будет верным и преданным союзником Франции. «Считалось, что на Польшу, Бельгию, Чехословакию и Румынию Франция при всех затруднениях в будущем может положиться как на верных союзников. Поэтому, как формулировал Жюль Камбон (генеральный секретарь МИД Франции. — С. Л.), „всякое сомнение должно решаться в пользу этих дружественных государств против фактического и потенциального врага“» (ПМД-2, с. 190). «Цинизм французской дипломатии, — указывает Ллойд Джордж, — никогда не проявлялся так ярко, как в отношении французов к польской развязности» [101]. Ну а последние, как говорится, и рады стараться.
Исходя из подобного толка представлений о Польше как о верном союзнике, представители Франции на конференции при всяком удобном случае решали вопросы в ее пользу, не считаясь ни со справедливостью, ни с прочими вильсоновскими принципами: «французы упорно, хотя и не всегда дальновидно, старались учитывать возможную группировку держав в будущей войне; в каждом отдельном случае они непременно хотели усилить своих возможных друзей и ослабить своих вероятных врагов» [102]. Подобный подход не особо и скрывался. Для иллюстрации такой позиции Ллойд Джордж процитировал одно из заявлений французского представителя в межсоюзной комиссии: «когда приходится выбирать между союзной и враждебной страной, комиссия, как бы сильно она ни стремилась к законной справедливости и беспристрастию, должна без колебаний решать дело в пользу союзника» [103].