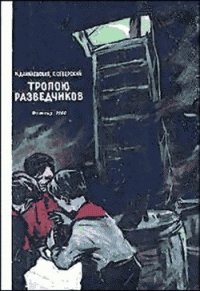Пермские чудеса (Поиски, тайны и гипотезы) - Осокин Василий Николаевич (читаем бесплатно книги полностью TXT) 📗
…Иван Андреевич задремал в кресле. Тучный, с могучей головой и седой гривой волос, походил он на спящего льва.
ГИМН ЧИТИНСКОГО ОСТРОГА
Декабристы распевали катенинский гимн… на каторге и в ссылке.
В частности, известно, что в Чите они выходили на работы с этой песней,
причем <конвойные> офицеры и солдаты слушали ее и маршировали под такт ее.
…На рассвете, под пасмурным небом сибирского края, заглушая звон кандалов, усталые люди негромко начинали гимн:
И конвоиры, не разбирая, не понимая смысла слов, но ощущая воинственный напев, дружно подхватывали:
…В тот вечер играла знаменитая Семенова. Несмотря на летнее время, театр оказался полон.
Завзятый театрал, капитан лейб-гвардии Преображенского полка, поэт Павел Александрович Катенин сидел в своем постоянном кресле во втором ряду партера. В антракте Катенин приметил литератора Гнедича, сидевшего неподалеку, и поклонился.
Вскоре Гнедич подошел к Катенину и представил смуглого курчавого юношу с бакенбардами.
— Вы знаете его по таланту. Это лицейский Пушкин.
Катенин, конечно, читал многие стихи Александра Пушкина. Он выразил искреннее сожаление, что завтра выступает с полком в Москву, тогда как очень хотел бы побеседовать с молодым поэтом. Пушкин, в свою очередь, заметил, что давно желал бы встретиться с Катениным, но что он также скоро должен выехать из Петербурга.
В залог будущей встречи они крепко пожали друг другу руки и взаимно пожелали счастливого пути.
В Петербург Катенин вернулся через год. Он носил уже эполеты полковника. Однажды он присутствовал на завтраке, который задал его товарищ по полку. Все преображенцы квартировали тогда в казармах на углу Большой Миллионной и Зимней канавки. Во время завтрака слуга доложил Катенину, что его спрашивает Пушкин.
— Граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин?! — с уверенностью переспросил Катенин.
— Да нет, просто Пушкин, из себя молоденький, небольшой ростом.
Катенин поспешно вышел и по внутренней галерее прошел к себе в номер. Потом широко распахнул дверь.
Улыбающийся Пушкин ловко подкинул кверху трость, поймал ее на лету и протянул толстым концом Катенину.
— Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи.
— Ученого учить — портить, — весело, в тон Пушкину, ответил хозяин.
Он ласково взял поэта под руку и повел в комнаты. Усадил на тахту. Дважды хлопнул в ладоши.
Тотчас вбежал слуга с подносом и двумя высокими хрустальными бокалами.
Катенин предложил выпить за содружество российских поэтов. Кубки звонко содвинулись. Но и в этот раз не удалось поэтам побеседовать вволю. День был воскресный, к полковнику начали являться гости. Хозяин упросил Пушкина остаться до обеда, потом до ужина. Прощаясь с Александром Сергеевичем, Катенин спросил, где тот живет. Поэт отвечал как-то уклончиво. Это удивило Катенина: он не знал, что 18-летний Пушкин жил тогда стесненно и старался не приглашать к себе новых знакомых.
Пушкин стал часто и запросто захаживать к Катенину, чему Павел Александрович был весьма рад. В одно из первых же посещений Пушкин спросил: нравятся ли Катенину его, Пушкина, стихи и какие.
— Легкое дарование приметно во всех, — отвечал Катенин, — но хорошим почитаю одно и то коротенькое: «Мечты, мечты! Где ваша сладость?!»
Ценитель Катенин был чересчур строгий. Пушкин с интересом разглядывал его: так резко и откровенно никто еще не высказывал ему в глаза мнения о его стихах.
Внешне они походили друг на друга: смуглые, порывистые, невысокие. Смуглость Катенину передалась от матери-гречанки. Пушкину — от прадеда-арапа. Пушкину понравилась манера Катенина держать себя резко и непринужденно. Незаметно для себя он стал ему подражать.
Однажды Катенин увлеченно рассказывал про свои «милые шалости» в полку. Пушкин только усмехался.
Но вдруг Катенин замолчал.
— Что с вами, Павел Александрович?
— Да ничего, милый Пушкин… Впрочем, от вас не потаюсь. Любил и я чисто и пламенно…
— Ну, ну и что же?..
— Что же? А вот… Это почти как у Жуковского. Впрочем, на сей раз мое:
Было это перед самой компанией 1812 года… Впрочем, вот вам и печальное продолжение, и конец этой истории:
грустно закончил Катенин.
Читал он свои стихи прекрасно: без ложного драматического пафоса, но задушевно. Пушкин помнил это стихотворение, незадолго до того напечатанное в журнале «Вестник Европы». Нравилось ему и другое стихотворение Катенина — «Убийца». При воспоминании о нем он все же не мог не улыбнуться: с «Убийцей» случился казус.
На читающую публику стихотворение это произвело сильное и странное впечатление. В то время любовью читателей пользовалась меланхолическая и сладостная муза Жуковского, в начале принятая холодно, но постепенно завоевавшая сердца многих. И вдруг появляются стихи «грубые», написанные энергичным и ясным слогом.
В стихотворении рассказывался известный на Костромщине случай ограбления и зверского убийства деревенским старостой престарелого владельца постоялого двора. Сияющий в небе месяц все время напоминает убийце страшную ночь — месяц светил и тогда, он — безмолвный свидетель преступления.
Наконец, не выдержав сиянья месяца и мук совести, убийца во всем сознается жене и с ненавистью обращается к месяцу:
После этого муж улегся и заснул. Но жена, не в силах хранить тайну преступления, донесла на мужа. Тот при первом же допросе сбился в речах и от страха «издох».
На автора стихотворения тотчас же обрушилась благовоспитанная журнальная критика, покоробленная простонародным словечком «издох». Своей мишенью она, кроме того, избрала выражение «плешивый месяц»…
Особенно ожесточенная полемика завязалась вокруг стихотворения Катенина «Ольга». Как и опубликованная за восемь лет до этого «Людмила» Жуковского, «Ольга» явилась вольным переложением баллады «Ленора» немецкого поэта Бюргера. В основе бюргеровской баллады лежала народная немецкая песня о том, как погибший воин явился за своей невестой. Живописались в ней скелеты и саваны, разверстые могилы, воющие мертвецы и т. п. Эта жуть привлекала некоторых читателей, подобно тому как иных невольно влечет отталкивающая сцена казни, убийства или катастрофы.
«Людмила» принесла славу Жуковскому. Говорили, будто он «писал эту балладу по ночам для большего настроения себя к этим ужасам».