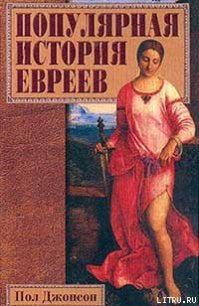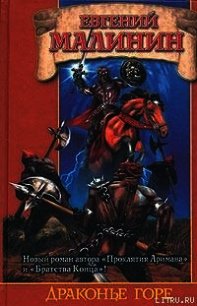Праведник. История о Рауле Валленберге, пропавшем герое Холокоста - Бирман Джон (читать книги бесплатно полностью без регистрации .txt) 📗
Воодушевленный успехом в провинции — ставшим возможным отчасти благодаря рвению местных партнеров, — Эйхман подготовил следующий дерзкий план ошеломительной и молниеносной депортации всего еврейского населения Будапешта, которую он планировал провести в течение 24-х часов во второй половине июля. Операция наверняка произведет на Мюллера и Гиммлера такое внушительное впечатление, что сможет обеспечить ему продвижение по службе и, возможно, доставит похвалу самого Гитлера. «Технические детали займут еще всего несколько дней», — сообщал он в направляемом в столицу докладе. Если бы эта акция Эйхмана удалась, она лишила бы миссию Валленберга всякого смысла. К тому времени, когда он сориентировался бы на месте, в городе евреев уже не осталось бы.
Однако регент Венгрии Хорти — получивший к тому времени множество протестов, побитый мировой прессой и весьма впечатленный успехами наступающей Красной Армии — набрался наконец храбрости и, следуя верному инстинкту самосохранения, приказал премьер-министру Дёме Стояи в дальнейшем депортации прекратить. Узнав о «предательстве», Эйхман впал в ярость. «За всю мою долгую службу, — гневался он, — такого со мной еще не случалось… И я с этим не смирюсь».
Хотя некоторое время мириться с новым порядком пришлось… Хорти предусмотрительно отозвал обратно в провинцию все 1600 привлеченных в столицу для предстоящей облавы жандармов; без них Эйхман, из-за недостатка военной силы, справиться почти с четвертью миллиона депортируемых не мог.
Через Везенмайера он обратился в Берлин за помощью. Ответ — несомненно, из-за произошедшего 20 июля покушения на Гитлера — задерживался. Когда же, наконец, он пришел — а исходил он от самого рейхсфюрера СС Гиммлера, — то поверг Эйхмана в глубочайшую депрессию: нацисты согласились приостановить депортации. К этому времени Гиммлер затеял собственную игру, целью которой было договориться с англосаксами, наступавшими на Германию с Запада, прежде чем она будет опустошена большевиками, надвигавшимися с Востока. Гиммлер считал себя деятелем, который вполне мог вести переговоры о сепаратном мире с западными союзниками; прекращение давления на евреев могло стать, по его мнению, одним из способов улучшения его репутации в их глазах.
Разъяренному Эйхману не оставалось иного, как утешать себя достигнутыми свершениями и дожидаться изменения обстановки, которое позволило бы ему закончить работу.
Начал он ее всего через несколько часов после прибытия своей команды в Будапешт 19 марта того же года. На следующее утро Эйхман поручил своим помощникам Герману Крумеи, Дитеру Вислицени и Отто Хунше установить контакт с лидерами венгерских евреев. Пятнадцати напуганным представителям еврейской общины Крумеи объявил, что с этого момента «все дела венгерского еврейства передаются в компетенцию СС». Евреям запрещается покидать Будапешт или менять без разрешения место жительства. Немедленно организуется Центральный еврейский совет из восьми человек, он будет получать распоряжения от гестапо, для чего в конторе совета должно быть организовано круглосуточное дежурство на телефоне. Для предотвращения паники среди еврейского населения еврейская пресса должна публиковать статьи, призывающие к спокойствию. Раввины призваны успокаивать свою паству. Гиммлер приказал Эйхману внимательно отслеживать настроения среди еврейского населения, выявляя малейшие признаки сопротивления, чреватые еще одним восстанием типа варшавского: не следовало доводить евреев до актов отчаяния.
Крумеи успокаивал. Евреям нечего опасаться, заявлял он. Конечно, в отношении их будут введены ограничения экономического характера, однако они не будут более жесткими, чем требуют того крайности войны. Религиозная, общественная и культурная еврейская жизнь будет продолжаться, как прежде. СС будет охранять их покой. Получив другие подобные же заверения, еврейские старейшины ушли с встречи чуть менее встревоженными, чем пришли на нее.
Как только Центральный еврейский совет, согласно отданному приказу, был создан, Эйхман лично обратился к нему. Его часовая речь состояла из курьезной смеси угроз, льстивых обещаний и, как обычно, обескураживающей демонстрации познаний в области еврейской культуры.
Евреям следует оповещать его, если кто-нибудь попытается тронуть их, заявлял Эйхман, он немедленно накажет виновных, даже если ими окажутся немецкие солдаты. Пожелавшие заниматься грабежом и присвоением еврейского имущества также будут им жестоко наказаны. Но пусть евреи не пробуют вводить его в заблуждение. Они об этом лишь пожалеют. Он занимается еврейскими делами вот уже десять лет, и никто еще из евреев его обмануть не смог. Он, кстати, лучше, чем они, знает иврит. Главная цель, которую он преследует, — это расширение производства на военных заводах. Для них-то и нужна еврейская рабочая сила. В настоящий момент требуются четыреста добровольцев. Если они не явятся сами, он наберет их с применением силы. Но и в том, и в другом случае с ними будут обходиться гуманно, и они будут получать заработную плату, как все другие рабочие. Начиная с этого момента все евреи должны в обязательном порядке носить на одежде желтую звезду. Хотя, заявлял Эйхман, это правило, как и прочие другие, о которых он вскоре объявит, вводится не навечно, а только до той поры, пока война не окончится. Сразу же после победы евреи поймут, что немцы — это все тот же доброжелательный народ, среди которого они жили прежде.
Сколь бы ни был скромен оптимизм, внушенный старейшинам речами Эйхмана, последовавшие события разбили его вдребезги. В течение всего нескольких дней были обнародованы приказы, запрещающие евреям покидать дома и предписывающие им сдавать местным властям все имеющиеся у них телефоны, радиоприемники и автомобили. Отбирались даже детские велосипеды. Счета евреев в банках немедленно замораживались, а продовольственные пайки значительно урезались. Евреев увольняли с государственной службы и в отношении их вводился запрет на профессии. Все магазины, конторы и фабрики передавались под арийское управление. Евреи были растеряны и деморализованы. Затем начались облавы в провинции. Евреев сгоняли в местные гетто и временные, наспех сооруженные концлагеря, служившие последней остановкой перед отправлением на заводы или в лагеря смерти в Польше и в Германии. Облавы в провинции проводились систематически, в одном районе за другим, венгерскими жандармами. Люди Эйхмана играли при них роль советников и наблюдателей. Жестокость, проявляемая жандармами, поражала даже эсэсовцев. По случайной или же умышленной иронии облавы начались в первый день еврейской Пасхи — в праздник, которым отмечается исход израильтян из египетского рабства.
Ужасы облав и депортаций зафиксированы в большом количестве документов. Но ни один отчет о массовом преследовании венгерских евреев не может сравниться с мучительно-горьким повествованием дневника Евы Хейман, тринадцатилетней девочки из благополучной, состоятельной еврейской семьи, жившей в Вараде, городе, расположенном неподалеку от границы с Румынией.
«31 марта. Сегодня отдали приказ, что все евреи должны носить желтые лоскутные звезды… Когда бабушка про это услышала, она опять стала странно вести себя, и мы вызвали доктора. Он сделал ей укол. Сейчас она спит… Аги (мать Евы) решила позвонить доктору, но сделать этого не могла. Дедушка объяснил ей, что у всех евреев телефоны забрали, и сказал, что он сам пойдет и приведет доктора. До сих пор Аги разговаривала с Будапештом каждый вечер, а теперь… Я даже не смогу поговорить с Анико и с Марикой. У евреев забрали их магазины… Не знаю, если взрослым запрещают работать, кто тогда будет кормить детей?…
1 апреля. Боже, сегодня 1 апреля. Кого бы разыграть? Кто сейчас об этом думает? Дорогой Дневник, скоро я буду у Анико и возьму с собой… свою канарейку в клетке. Боюсь, Манди умрет, если оставить ее дома, все сейчас думают о другом, и я за Манди боюсь. Она такая ласковая птичка! Каждый раз, когда я прохожу мимо клетки, она замечает меня и начинает петь.
7 апреля. Сегодня пришли за моим велосипедом. Я чуть не закатила им сцену… Сейчас, когда все кончилось, мне так стыдно за свое поведение. Я бросилась на землю, схватилась за заднее колесо и стала обзывать полицейских. «Позор! Отбирать велосипед у девочки! Это грабеж…» Один из полицейских разозлился на меня и закричал: «Еще не хватало этой комедии от какой-то еврейки, у которой забирают велосипед! Детям евреев велосипеды не положены»… А другой полицейский, кажется, меня пожалел. «Как вам не стыдно, коллега, — сказал он. — У вас сердце из камня? Как можно разговаривать так с хорошенькой девочкой?» Он погладил меня по голове и обещал за велосипедом присматривать. А потом дал мне расписку и сказал, чтобы я не плакала: когда война кончится, велосипед отдадут обратно.
20 апреля. Каждый день появляются все новые законы против евреев. Сегодня, например, у нас забрали все домашние приборы: стиральную машину, радиоприемник, телефон, пылесос, тостер и мой фотоаппарат… Аги сказала: хорошо еще, что они забирают вещи, а не людей. Она говорит правду. Я, может, до того, как стать фотокорреспондентом, обзаведусь еще настоящей цейссовской фотокамерой, а вот маму или дедушку заменить действительно некем. Бедный дедушка, он больше не ходит в свою аптеку. И все время так странно и печально смотрит на Аги и ласкает ее, словно прощается. Аги даже сказала ему: «Прекрати! Ты как будто со мной прощаешься. Папочка, у меня и так сердце разрывается». Аги хочет, чтобы ее отец никогда с ней не расставался. И я ее понимаю, потому что сама хочу, чтобы все мы остались живы.
1 мая. Дорогой Дневник, с сегодняшнего дня я живу, как во сне. Мы стали упаковывать вещи. Точно в том количестве, о котором Аги вычитала в объявлении. Я знаю, что это не сон, но не верю, чтобы это было на самом деле. Нам разрешили взять с собой постельное белье, но мы не знаем точно, когда за нами придут, и поэтому белье пока что не упаковываем. Я весь день готовила кофе для дядюшки Белы; бабушка пьет коньяк. Никто не говорит ни слова. Дорогой Дневник, мне страшно, как никогда.
5 мая. Дорогой Дневник, ты теперь больше — не дома, ты — в гетто. Мы три дня ждали, когда придут и нас заберут… Дорогой Дневник, я еще слишком маленькая, чтобы записать все, как было, пока мы ждали, когда нас заберут. Они всё приказывали, а Аги хныкала и говорила, что мы это заслужили, потому что, как животные, терпеливо дожидались, когда нас зарежут… Двое полицейских, которые за нами приехали, противными не были; они только забрали у Аги и бабушки их обручальные кольца. Аги вся дрожала и никак не могла снять кольцо с пальца. В конце концов, кольцо сняла бабушка. Потом они проверили наш багаж и сказали, чтобы мы оставили дедушкин чемодан — он ведь из настоящей свиной кожи. Они не позволяют брать с собой ничего из кожи. Говорят: «Сейчас идет война, и кожа нужна солдатам…» Один из полицейских увидел на моей шее маленькую золотую цепочку — подарок на день рождения, я ношу на ней ключик, которым отпираю и закрываю тебя, Дневник. «Разве вы не знаете, — сказал полицейский, — что хранение золотых вещей вам запрещено? Золото теперь не принадлежит евреям, оно теперь всё — народное!» Каждый раз, когда они у нас что-нибудь отбирали, Аги притворялась, что не обращает на это внимания — у нее настоящая мания не показывать вида, будто мы переживаем из-за того, что у нас отбирают, но на этот раз она попросила полицейского, чтобы он позволил мне оставить маленькую золотую цепочку. Аги заплакала и сказала: «Господин инспектор, вы можете спросить у своих коллег, и они вам скажут, я еще ни у кого из них ни о чем не просила. Пожалуйста, позвольте оставить ребенку ее маленькую золотую цепочку. Видите, она носит на ней ключик от своего дневника?» — «Увы, — сказал полицейский, — это невозможно! В гетто вас снова обыщут. Ну а мне, слава Богу, ваша цепочка не нужна, как и все другое. Мне ничего этого не нужно. Но я не хочу неприятностей. Я женатый человек. И моя жена скоро рожает». Я ему цепочку отдала…
Дорогой Дневник, самое ужасное случилось, когда мы проходили через ворота. Там я впервые увидела, как плачет дедушка. Из ворот хорошо видно парк, и парк показался мне красивым, как никогда… Я никогда не забуду, как дедушка стоял в воротах, трясся и плакал. Слезы стояли в глазах и у дядюшки Белы. Только теперь я заметила, какой старенькой стала бабушка… Она прошла через ворота такой походкой, будто была пьяная или ходила во сне…
Когда стемнело, мы легли на матрац. Я прижалась к Марике, и нам вдвоем — верь не верь, дорогой Дневник, — стало так хорошо. Странно, но мы все… мы все были вместе, все на свете, кого мы любили… Мы выбрали маму Марики тетю Клари Кекшемети, она стала у нас в комнате главной. Все должны были ее слушаться. В темноте она долго что-то всем говорила, и, хотя я уже почти спала, я поняла, что мы должны поддерживать чистоту, это очень важно — поддерживать чистоту, и еще — мы должны заботиться друг о друге…
10 мая. Дорогой Дневник, мы здесь уже пятый день, но, честное слово, кажется, будто прошло пять лет. Я даже не знаю, с чего начать, потому что с тех пор, как писала в последний раз, произошло так много ужасного. Сначала закончили ограду, и теперь никто не может ни войти сюда, ни отсюда выйти… С сегодняшнего дня, дорогой Дневник, мы не просто в гетто, а в лагере-гетто, и на каждом доме они наклеили объявления, где точно сказано, что нам запрещено… В общем-то нам запрещено всё, но самое ужасное, за любое нарушение положено только одно — смерть. Между наказаниями нет разницы: тебя не ставят в угол, не шлепают, не лишают обеда, не заставляют спрягать неправильные глаголы сотни раз, как это делали в школе. Ничего подобного — наказание одинаковое и за самые маленькие и за самые большие провинности. В объявлениях не сказано, что оно касается и детей тоже, но я думаю, что касается…
Каждый раз я думаю: ну вот, это всё, ничего хуже не может быть, а потом обнаруживается, что хуже быть может — еще хуже и хуже. Раньше у нас была еда, но теперь нам нечего есть. Раньше, по крайней мере, мы могли по гетто ходить, а теперь мы не можем даже выйти из дома…
14 мая. Нам запрещено выглядывать в окно — за это тоже могут убить. Но мы все равно все слышим, и мы с Марикой слышали, как звонит по ту сторону ограды в свой колокольчик продавец мороженого. Я люблю мороженое, и мороженое в стаканчиках на улице я люблю даже больше, чем то, что дороже, которое продают в кондитерских. Конечно, я не знаю — я ведь его не вижу, — тот ли это за оградой звонит продавец мороженого, который обычно приходил к нам на улицу, но во всем Вараде всего два продавца мороженого, так что это может быть, в самом деле он. И теперь, наверное, ему грустно оттого, что его покупательницы отгорожены от него и живут по другую сторону…
17 мая. Я ведь уже писала, мой дорогой Дневник, что за любым несчастьем может наступить еще худшее? И ты, конечно, видишь, насколько я оказалась права? На пивоварне Дрегера начались допросы… Жандармы не верят, что у евреев не осталось ничего ценного. Они говорят, что евреи спрятали свои ценности, или зарыли их, или оставили на хранение у арийцев. Мы, например, оставили бабушкины драгоценности на хранение у Юстисов, это верно. Теперь жандармы приходят в гетто и забирают людей, как правило из богатых, и уводят их на пивоварню Дрегера. А там они их бьют, пока те не скажут, где спрятали свои ценности. Я знаю, что бьют их ужасно, — Аги говорит, что из больницы часто доносятся крики. Теперь все в нашем доме боятся, как бы их не увели к Дрегеру.
18 мая. Прошлой ночью, дорогой Дневник… я не могла заснуть и слышала, о чем говорят взрослые… Они говорили, что людей у Дрегера не только бьют, но еще и пытают — электрическим током. Аги плакала, когда рассказывала об этом, и, если бы рассказывала не она, я бы ничему не поверила и решила, что это всего-навсего ужасная история из какого-нибудь кошмара. Аги говорила, что людей привозят из пивоварни с окровавленными ртами и ушами, у некоторых не хватает зубов, а ступни на ногах у многих такие распухшие, что они не могут ходить. Дорогой Дневник, Аги рассказывала еще о другом, о том, что делают там с женщинами, потому что женщин тоже забирают туда. Это такие ужасные вещи, что лучше о них вообще не писать, да я и не найду слов… Я слышала, что здесь, в гетто, некоторые кончают самоубийством. В здешней аптеке есть яды, и дедушка дает их старикам, которые их у него спрашивают. Дедушка говорит, что ему самому лучше всего было бы принять цианид и дать его бабушке…
22 мая… Сегодня объявили, что (к Дрегеру) заберут главу каждой семьи, и дедушке тоже придется туда отправиться. Оттуда доносятся истошные крики. Весь день электропроигрыватель крутит одну и ту же песню — «Ты только одна на свете». Ее слышно во всем гетто и ночью и днем. Когда пластинка заканчивается, слышны крики… Аги все время утешает меня, она говорит, что русские на фронте продвигаются вперед настолько быстро, что нас не успеют увезти в Польшу. К тому времени, когда мы туда доехали бы, мы как раз попали бы к русским. Аги считает, что нас, скорее, увезут в деревню, где заставят работать в поле. Скоро наступит время уборки урожая, а всех хозяев забрали в армию. Ах, как мне хочется, чтобы Аги была права…
29 мая. А теперь, дорогой Дневник, теперь конец действительно наступил. Гетто разбили на несколько частей, и нас собираются отсюда куда-то забрать…
30 мая. Тот жандарм, который все время караулит напротив нашего дома и о котором дядюшка Бела говорит, что он к нам дружелюбно настроен, потому что он на нас не кричит и не обращается фамильярно с женщинами, он пришел к нам в сад и сказал, что собирается из жандармерии уходить. Он не может больше у них служить из-за того, что ему довелось увидеть на станции Редипарк, — это, он сказал, не для человеческих глаз. В каждый вагон они затолкали по восемьдесят человек и оставили на всех только по одному ведру воды. Но, что еще ужаснее, они закрыли на всех вагонах задвижки снаружи. В такую ужасную жару мы там обязательно задохнемся… Дорогой Дневник, я не хочу умирать; я хочу жить, даже если позволят жить только мне одной… Я дождусь конца войны в каком-нибудь погребе, или на крыше, или еще в каком-нибудь закутке. Я даже позволила бы тому косому жандарму, который отобрал у нас муку, целовать меня, если только они меня не убьют, если только они оставят меня жить. Я вижу отсюда, как тот самый хороший жандарм впустил через ворота Маришку. Я больше не могу писать. Дорогой Дневник, слезы застилают глаза. Я побегу к Маришке [19].»
19
Дневник Евы сохранила та самая Маришка, о которой говорится в последней записи дневника. Венгерка, она прослужила в семье Евы много лет. Впоследствии дневник попал в архивы израильского мемориала Яд Вашем. Ева была отправлена в Освенцим 2 июня 1944 г. Через четыре дня она прибыла в лагерь и оставалась там в живых до 17 октября, когда ее вместе с другими отправил в газовую камеру пресловутый д-р Йозеф Менгеле, после окончания войны сбежавший в Южную Америку.