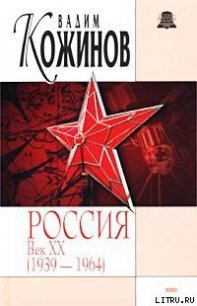Россия век XX-й. 1901-1939 - Кожинов Вадим Валерьянович (читать книгу онлайн бесплатно без .txt) 📗
Эти строки не только полная отмена нарвственных заповедей, но и точная «модель» поведения множества людей в 1937 году…
Конечно, смысл популярных стихов — только одно — и не принадлежавшее к наиболее существенным — из проявлений политического климата, но даже и он, этот смысл, дает представление о том, почему возможно было без особенных «трудностей» отправить на казнь сотни тысяч людей в 1937–1938 годах. Очень важно само безоговорочное требование «солги», ибо террор тех лет основывался на заведомой и тотальной лжи: деятели, оказавшиеся не соответствующими тем историческим сдвигам, которые были явным отходом от собственно революционной политики и идеологии, то есть, в конечном счете, сдвигами контрреволюционными (о чем согласно писали и Троцкий, и Федотов) осуждались и уничтожались как контрреволюционеры!
Стоит отметить, впрочем, что иногда действительный смысл происходившего как бы обнажался. Так, например, Алексей Толстой написал в 1938 году следующее: «Достоевский создавал Николая Ставрогина (главный герой романа „Бесы“. — В.К.), тип опустошенного человека, без родины, без веры, тип, который через 50 лет (писатель ошибся — через 65 лет. — В.К.) предстал перед Верховным судом СССР как предатель…», [387] — то есть получалось, что в 1937-м судили все-таки чуждых родине «бесов» Революции…
Один из исследователей обратил внимание и на статью бывшего «сменовеховца» Исая Лежнева (Альтшулера) в «Правде» от 25 января 1937 года о начавшемся 23 января суде над «контрреволюционерами» Пятаковым, Сокольниковым, Радеком, Серебряковым (все — бывшие члены ЦК) и другими: «Статья эта носит название „Смердяковы“, и ее главной целью является доказать, что подсудимые не просто враги советской власти, а преимущественно враги русского народа… Лейтмотивом статьи являются слова Смердякова (героя романа Достоевского „Братья Карамазовы“. — В.К.): «Я всю Россию ненавижу… Русский народ надо пороть-с», — которые, согласно Лежневу, отражают душевное состояние подсудимых…» [388]
Тем не менее, несмотря на такого рода «проговоры», 1937 год проходил все же под знаком борьбы с контрреволюционерами. Георгий Федотов утверждал в 1936 году: «Происходящая в России ликвидация коммунизма окутана защитным покровом лжи. Марксистская символика революции еще не упразднена…» И объяснял это, во-первых, тем, что «создать заново идеологию, соответствующую новому строю, задача, очевидно, непосильная для нынешних правителей России», а, во-вторых, тем, что «отрекаться от своей собственной революционной генеалогии — было бы безрассудно», — вот, смотрите, Франция уже 150 лет (ныне — 200 с лишним) не отрекается от своей революции, не менее чудовищной, чем Российская. [389]
(Забегая далеко вперед, отмечу, что в России люди гораздо менее «расчетливы», чем во Франции, и множество из них сегодня напрочь «отрекается» от всего, что происходило в их родной стране с 25 октября 1917-го или даже с 14 декабря 1825 года… Но это, конечно, особенная проблема).
Федотов, как уже говорилось, сильно преувеличивал «контрреволюционность» политики 1930-х годов, но основное историческое движение определял верно. В частности, как ни неожиданно — и, для многих, возмутительно — это прозвучит, именно в 1930-е годы в стране начинает в какой-то мере утверждаться законность, правовой порядок. Господствует прямо противоположная точка зрения, согласно которой 1937 год был временем крайнего, беспрецедентного беззакония, что особенно ясно и страшно выразилось в избиениях и даже изощренных пытках «обвиняемых», от которых требовали признаний в выдуманных «преступлениях».
В первые послереволюционные годы такого рода «практика» была гораздо более редким явлением. Жестокое насилие применялось, главным образом, тогда, когда надо было заставить выдать какую-либо «тайну» (скажем, сведения о количестве и вооружении отряда белых или о том, где скрываются повстанцы и т. п.). Добиваться же признания в какой-нибудь «вине» перед Революцией было, в общем, совершенно не к чему.
Это хорошо показано в кратком исследовании Дмитрия Галковского «Стучкины дети» — о «правовой» идеологии одного из первых наркомов юстиции РСФСР, а затем — председателе Верховного суда Петериса Стучки (1865–1932), — кстати сказать, зяте (муже сестры) известнейшего латышского писателя Яна Райниса. Стучка недвусмысленно писал: «Так называемая юриспруденция есть последняя крепость буржуазного мира». И чтобы окончательно отменить юриспруденцию, Стучка «отменил» сам ее «предмет» — преступность:
«Слово „преступность“ не что иное, как вредная отрыжка буржуазной науки… Возьмем… крестьянина, который напился „вдрызг“ и в драке убил случайно того или другого… Если крестьянин совершил убийство по бытовым побуждениям, мы этого убийцу могли бы отпустить на свободу с предупреждением… И наоборот, кулак, эксплуататор, даже если он формально и не совершал никаких преступлений, уже самим фактом своего существования в социалистическом обществе является вредным элементом и подлежит изоляции». [390]
Это «теоретизирование» вполне адекватно отражало практику революционного времени. Совершенно очевидно, например, что преобладающее большинство казней в 1918–1922 годах совершалось вообще без хоть какого-либо «разбирательства». Так, точно известно, что в 1921 году был вынесен всего лишь 9701 смертный приговор, но совершенно нелепо было бы полагать, что мы имеем тем самым сведения о количестве расстрелянных в этом году. Вот тот же самый Багрицкий, который отлично знал, что происходило на Украине в 1919–1921 годах, ибо сам побывал инструктором политотдела отряда красных, описывает «практику» воспеваемого им комиссара продотряда:
Естественно, при этом ровно никакие юридические акции не предпринимались, и «приговор» нигде не фиксировался.
Между тем в 1930-х годах юриспруденция так или иначе начинает восстанавливаться. Это, между прочим, убедительно показано в переведенном на русский и изданном в Москве в 1993 году исследовании американского правоведа Юджина Хаски «Российская адвокатура и Советское государство» (1986). Характерны названия разделов этого трактата: «Гражданская война и расцвет правового нигилизма» и «Конец правового нигилизма». Этот «конец» автор усматривает уже в событиях начала 1930-х годов, хотя тут же отмечает, что другой американский исследователь истории советской юриспруденции, П. Джувилер, в своей книге «Революционный правопорядок» (1976) «датирует начало поворота в правовой политике 1934–1935 годами», [391] — то есть временем многостороннего поворота, о котором подробно говорилось выше.
П. Джуливер, несомненно, датирует вернее, да и сам Ю. Хаски исходит только из того, что до указанной даты имели место лишь отдельные выступления в «защиту» юриспруденции, и сообщает, что «в начале 1930-х годов нарком юстиции РСФСР Н. Крыленко и некоторые другие оставались приверженцами нигилистического подхода к праву» (там же, с. 140). Точно так же, пишет Хаски, «известный как „совесть партии“ Аарон Сольц отказался отступить от революционных принципов» (с. 115). Итак, и нарком, и влиятельнейший член Президиума Центральной контрольной комиссии ВКП(б), осуществлявший верховный партийный надзор за судебной практикой, были против утверждения правовых норм. Но к середине 1930-х годов этого рода сопротивление было сломлено.
Между прочим, именно благодаря этому мы смогли узнать обо всех — или, в крайнем случае, почти обо всех — жертвах 1937 года… Могут сказать, что для многих тогдашних «контрреволюционеров» установление правовых норм имело тяжкие последствия, ибо из них «выбивали» признания в мнимых преступлениях вместо того, чтобы попросту расстрелять, — как это делалось в первые послереволюционные годы. И тут действительно есть о чем задуматься…