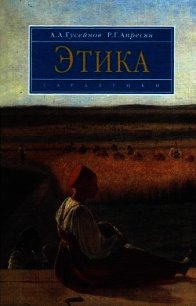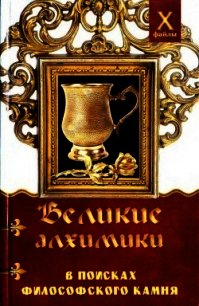Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней - Гусейнов Абдусалам (читать онлайн полную книгу .TXT) 📗
Знания о внешнем мире могут привести только к пессимистическому мировоззрению. Миро- и жизнеутверждение из них невыводимо. О каком основанном на знании этическом оптимизме может идти речь, если существование человека и человечества так хрупко, ненадежно, зависимо от тысячи всевозможных случайностей. Этика имеет другой источник, и таким источником является воля к жизни, которую мы, люди, в себе находим. Кант постулировал нравственность в качестве априорного принципа. Швейцер постулирует ее как непосредственный мистический факт. Логика рассуждений Швейцера такова: этика выводится из воли к жизни и выступает как благоговение перед жизнью, ибо выводиться из чего-либо другого и быть иной она не может. Получается, что этика рационально, логически обоснованна, но только в плане отрицательной причинности. На ниве познания, поскольку оно является познанием мира, то есть рациональным, логически необходимым знанием о нем, такой диковинный злак, как этика, произрасти не может.
Правда, Швейцер считает, что воля к жизни и сама является познанием, и притом познанием непосредственным, сокровенным и более глубоким, чем познание в обычном смысле слова. «Познание, которое я приобретаю благодаря своей воле к жизни, богаче, чем познание, добываемое мною путем наблюдений над миром. Высшим знанием. является знание о том, что я должен доверять моей воле к жизни.
Это дает мне в руки компас для плавания, которое я должен совершить ночью и без карты» (с. 203, 202). Здесь явно усматривается стоическая основа этики Швейцера. Этический принцип, который не находит подтверждение в эмпирическом опыте и не может быть обоснован в рамках научного знания, апеллирует к некоему универсальному опыту (у стоиков — мировой разум, у Швейцера — воля к жизни) и рассматривает себя как свидетельство непосредственной причастности к тайне универсума, а соответственно и как более высокую истину, чем всегда ограниченное знание о мире. «Во всем, что существует, действует сила, стремящаяся к идеалу» (с. 203). В человека она достигает высшего проявления и становится сознательно обоснованным смыслом существования. «Мы не знаем, каким образом возникло в нас это стремление. Но оно дано нам вместе с жизнью. Мы должны следовать этому стремлению, если хотим оставаться верными таинственной воле к жизни, заложенной в нас» (с. 203).
Швейцер, объявивший бесперспективными попытки «вывести смысл жизни из смысла бытия» (с. 198), пришел к заключению, что смысл жизни совпадает с бытием. Ибо что значит благоговеть перед жизнью? Это значит, что «сознательно и по своей воле я отдаюсь бытию. Я начинаю служить идеалам, которые пробуждаются во мне, становлюсь силой, подобной той, которая так загадочно действует в природе. Таким путем я придаю внутренний смысл своему существованию» (с. 209). В самом важном и самом трудном для этической теории в вопросе о соотношении бытия и морали Швейцер придерживается, таким образом, следующей позиции: добро не выводится из бытия, потому что само бытие и есть добро. Добро не выводится из бытия как объекта познания, оно тождественно ему как непосредственной данности, предмету внутреннего переживания, то есть как воле к жизни.
Этика Швейцера поразительным образом соединяет полярные теоретические и нормативные традиции, являя собой своеобразный рационалистически-мистический, автономно-гетерономный, стоико-эвдемонический синтез. Правильно понять эту «эклектику» можно только в том случае, если учесть, что этика для Швейцера — не сфера познания, а наиболее достойная форма человеческого существования. Напряженность этической концепции, в которой мистика опирается на рациональные аргументы, автономность сознает себя в качестве воплощенной гетерономности, стоицизм является самоосуществлением личности, находит объяснение в неизбежной, принципиально неустранимой напряженности человеческого бытия, которая этическим поведением не снимается, а в известном смысле даже усиливается. Этические теории прошлого обещали людям вывести корабль в тихую гавань. Швейцер хочет научить их плавать в бурном море.
Этика и мистика
Смысл человеческой жизни не может быть выведен из смысла бытия, а этика — из гносеологии. Эта мысль Швейцера имеет значение, выходящее за рамки его этической концепции. Она явилась как бы знамением времени, обозначив рубеж, отделяющий классическую этику от современной. Ее нетрудно усмотреть в экзистенциалистском бунте против этического интеллектуализма, стремящегося, по словам Л. Шестова, подчинить мораль необходимости, возвести гносеологическое принуждение в моральное убеждение. В рамках позитивистской традиции она осмыслена как невозможность выведения ценностей из фактов; если, говорит Л. Витгенштейн, помыслить себе всеведущую личность, которая бы исчерпывающе описала мир, включая все состояния сознания, то в такой книге не нашлось бы места для этических суждений. Даже известное ленинское утверждение, что в марксизме нет ни грана этики, что он сводит ее в теоретическом плане к принципу причинности, а в практическом — к классовой борьбе, выражает, по сути дела, ту же самую мысль: научное знание и «знающая», научно организованная деятельность делают этику избыточной.
Но как же быть с моралью, которой не находится места в объективном мире? Пусть и лишенная санкции науки она тем не менее все-таки существует. И существует, сохраняя всю свою «спесь», категоричность оценок, притязания на абсолютность. Ее нельзя объявить иллюзией и изолировать, как изолируют душевнобольного, мнящего себя Наполеоном: моралью «больны» все люди. Да и в пределах науки от нее не так легко отмахнуться, ибо, изгнанная за двери, она возвращается через окно муками совести ученого, вспышками общественного негодования против научно-технических достижений, многообразными другими способами «нарушает» спокойный исследовательский процесс. Познание, освободившее себя от необходимости заниматься моралью за отсутствием ее в реальном мире, составляющем единственный его предмет, вынуждено тем не менее вновь и вновь биться над этой квадратурой круга: как вписать в систему знания то, что знанием не является, как охватить светом тьму? Проблема эта приобретает особую драматичность у Швейцера, рационализм которого не знает отступлений и компромиссов. Швейцер не приемлет решений, изгоняющих мораль из пределов рациональности в область веры, эмоций. И тем более он не может принять отрицания морали.
Этика, считает Швейцер, должна родиться из мистики. При этом мистику он определяет как прорыв земного в неземное, временного в вечное. Мистика бывает наивной и завершенной; наивная мистика достигает приобщения к неземному и вечному путем мистерии, магического акта, завершенная — путем умозрения. Тем самым проблема возможности этики приобретает еще большую остроту, ибо неземное и вечное не может быть выражено в языке. Язык способен охватить лишь земную и конечную реальность. Эту неразрешимую проблему Альберт Швейцер решил с такой же простотой, с какой Александр Македонский разрубил гордиев узел. Этика возможна не как знание, а как действие, индивидуальный выбор, поведение.
«Истинная этика начинается там, где перестают пользоваться словами» (с. 221). Это высказывание Швейцера нельзя рассматривать только в педагогическом аспекте, как подчеркивание первостепенной роли личного примера в нравственном воспитании. Гораздо более важно его теоретическое содержание. Поскольку этика есть бытие, данное как воля к жизни, то и разворачиваться она может в бытийной плоскости. Она совпадает с волей к жизни, которая утверждает себя солидарно с любой другой волей к жизни. Этика существует как этическое действие, соединяющее индивида со всеми другими живыми существами и выводящее его в ту область неземного и вечного, которая закрыта для языка и логически упорядоченного знания. Вчитаемся внимательно в необычные слова Швейцера, смысл которых не умещается в предзаданные им масштабы, как если бы великан натягивал на себя детскую распашонку: «Воля к жизни проявляется во мне как воля к жизни, стремящаяся соединиться с другой волей к жизни. Этот факт — мой свет в темноте. Я свободен от того незнания, в котором пребывает мир. Я избавлен от мира. Благоговение перед жизнью наполнило меня таким беспокойством, которого мир не знает. Я черпаю в нем блаженство, которого мне не может дать мир. И когда в этом ином, чем мир, бытии некто другой и я понимаем друг друга и охотно помогаем друг другу там, где одна воля мучила бы другую, то это означает, что раздвоенность воли к жизни ликвидирована» (с. 219–220). Только через волю к жизни, через деятельное возвышение и утверждение жизни осуществляется «мистика этического единения с бытием» (с. 217).