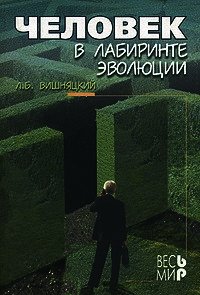Человек в лабиринте идентичностей - Свасьян Карен Араевич (электронные книги без регистрации .txt) 📗
9.
С этой (другой) необходимости и начинается тема человек в лабиринте идентичностей. Первое фатальное заблуждение: человек и мир мыслятся раздельно, не как одна, а как две сущности, где объективному миру, или природе, противостоит субъективное Я. Мир воздействует извне на Я, а последнее, в свою очередь, реагирует на эти воздействия ощущениями, подводя их под соответствующие понятия. Чтобы понять, насколько глубоко укоренился в нас этот предрассудок, попробуйте однажды решительно усомниться в нем и проследите реакцию любого собеседника, всё равно: философа, физика, физиолога, психолога, социолога или уже кого угодно. Нет сомнения, что вас примут за сумасшедшего. Нормальный человек воспринимает мир вне себя, а себя противостоящим миру. Мир для него — это какая — то объективная таинственная субстанция (материя, или, говоря по — модному, «губкообразная клочковатая структура»), порождающая в нем субъективные ощущения и мысли, в частности, следующую мысль — вопрос: что собственно ощущается и что мыслится здесь как мир. Вопрос — ловушка, попав в которую он видит, что ощущает совсем не то, что мыслит, соответственно, мыслит не то, что ощущает, потому что ощущает он, как наивный реалист, а мыслит, как субъективный или объективный идеалист, или иначе: ощущает, как нормальный человек, а мыслит, как философ. Философ не дает покоя нормальному, внушая ему иллюзорность его ощущений, но и себе самому он не дает покоя, потому что, принимая свои мысли за объективные, он оказывается догматиком, а настаивая на их субъективности — агностиком. Чего он не видит, так это того, что сам же заварил кашу, которую в попытках расхлебать варит дальше, и что корень всех его злосчастий — это абсолютный вздор противопоставления мира и Я. Нормальные, мы лишь машинально повторяем философскую мантру «cogito», не видя, какими клиническими последствиями чревата эта машинальность.
Достаточно спросить: откуда берутся мысли в голове (в том числе и мысль о мыслящем Я), притом что Я отождествляет себя с телом, которое называет собой, хотя ему об этом «себе» известно едва ли больше, чем о самых отдаленных вещах вне себя? Знаем ли мы, в самом деле, о «нашем» обмене веществ больше, чем о звездном небе над нами? Или о любых других отправлениях тела и — души. Иначе: способно ли наше Я, которое и есть сама сознательность, как таковая, сознательно производить или, по меньшей мере, сопровождать все атрибутируемые им себе действия? Что — в действительности — означают выражения типа: «думаю», «говорю», «смотрю» и т. п.? Участвует ли Я на самом деле в актах мышления, говорения, смотрения? Если да, то оно делает их, и тогда это называется: «я мыслю», «я говорю», «я смотрю». А что, если ему лишь кажется, что оно делает их, тогда как на самом деле оно само делается ими (= «мыслится», «говорится», «смотрится»)! Подумаем о таких действиях, как: «сплю», «болею», «выздоравливаю», «перевариваю пищу», «шучу», «умираю»? «Я сплю»? Но я не делаю этого даже в дурном сне, и не делаю оттого, что — сплю. Или: «я просыпаюсь»? Что значило бы: сплю и принимаю во сне решение не спать больше. Дальше — хуже. Дальше: пищеварение, кровообращение, обмен веществ. «Я перевариваю»? Перемещаюсь сознанием в пищеварительный тракт и — произвожу пищеварение? Даже самые невменяемые каскадеры современных performances не додумались еще до таких вывертов креативности. Нормальным ответом было бы: мир производит на «моем» организме, до которого он развил себя и которым стал, чтобы научиться говорить себе Я, процессы сна, пробуждения, обмена веществ или пищеварения — с такой же непреложностью, с какой он производит прочие природные процессы. Не легче обстоит дело и с чувствами, переживаниями. В фильме «Амадеус» будущая теща Моцарта, узнав о предстоящем браке дочери, спрашивает императора: «Ваше Величество, Вы позволите мне упасть в обморок?» Это типично картезианский анекдот, к тому же совсем не смешной. Не смешнее, во всяком случае, чем если думают, что, смеясь над ним, смеются сами. (Мне вспоминается Петер, милый немец из ГДР, преподававший, в рамках программы по преподавательскому обмену, немецкий в университете; он посещал время от времени наши посиделки, старательно привыкая к дикой и совершенно чуждой ему алогичности анекдотов; однажды он поднял палец и сказал, когда все стихли: «Сейчас я буду шутить».) Со всей серьезностью: кто здесь собственно нормален, а кто ненормален? Анекдот корректируется вопросом: что же я собственно могу — сам? Вот врач, лечащий больного, прописывает ему лекарство и говорит: «Постарайтесь уснуть. Об остальном позаботится ваш организм». Им и в голову не приходит, что они находятся в анекдоте. Анекдот — оскорбительно ясный вопрос: «Что это за оккультный организм, который заботится о своем обладателе, когда тот спит?» Очень любопытный расклад ролей: «я» сплю, в то время как «мой» организм заботится о «моем» выздоровлении… Еще раз: что я могу — сам? Но чтобы мочь «самому», нужно же прежде быть «самому», и быть не в анекдоте, а — на самом деле. Иными словами: мне нужно научиться жить в Я, как мне живется в теле (в теле именно живется, но в Я можно только жить). Есть условия биологической жизни, и есть условия жизни духовной. Биологически я живу (мне живется), поскольку дышу (дышится). Духовно жить я могу, только мысля. Мысль для Я есть то же, что воздух для легких. Но я так же мало могу мыслить, не будучи прежде и параллельно сам мыслим, как мало я могу выдыхать воздух, не вдохнув его предварительно. «Cogito» столь же абсурдно без «cogitor», как выдох без вдоха. «Cogito», чтобы не быть абсурдным, предполагает имплицит: «мир мыслит меня и во мне». Cogitor, ergo sum. [52] Иначе: если «я мыслю», то не потому, что во «мне» сидит некое Я, которое противопоставляет себя миру и мыслит мир, а потому, что сидящее во «мне» и противопоставляющее себя миру Я и есть сам мир, наконец — то достигший во «мне» (как я) умения обращаться к себе на Я. Мир являет себя параллельно и синхронно: один раз, как свершение вовне, другой раз, как мысль о свершении — внутри, причем другой раз на более высокой эволюционной ступени, потому что мысль о свершении тем и отличается от непосредственно данного свершения, что последнее мгновенно и преходяще, а она — на все времена. (Поучительно было бы продумать этот отрывок в свете, падающем на него от Мф. 24:35: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут никогда».) Мне придется решительно поступиться своим драгоценным Я, собственником которого я себя простодушно считаю, и понять, что единственный легитимный собственник меня самого («Я» собственно) — мир, который в миллиардах лет сумел стать человеком, чтобы, как человек, обращаться к себе на Я и через это Я (мифологически, теологически, мистически, философски, художественно, естественнонаучно) вспоминать, как он стал тем, чем от вечности всегда уже — был. Таким образом, рефлекторной вере большинства (философов, как и нефилософов) противопоставляется абсолютно непримиримая позиция мысли, согласно которой мир и человек — одна сущность, а человеческое восприятие — не реакция органов чувств на некий таинственный мировой агенс (= материя или идея), а самореференция мира. Говоря конкретнее: нет, в действительности, никакого мира, который состоял бы, с одной стороны, из вещей, а с другой, из нас, противостоящих вещам в качестве господ и обладателей (декартовских «maîtres et possesseurs»). Я и сам есть вещь мира, отличающаяся от любой другой не по происхождению, а по рангу, что значит: по умению не только быть, но и знать, что есть, и что есть, — скажем, от той церковной люстры в Пизанском соборе, на наблюдении которой мир, откликающийся на имя Галилей, постиг, что такая элементарная вещь, как маятник, обязана своим качанием не сущности, вмысленной в нее, как собственность, одним греческим иллюзионистом, а мировому закону, равно как и такая гениальная вещь, как Галилей, обязана этим открытием не своему частнособственническому уму, а мировой интеллигенции. Деля мир на мир и нас самих, мы философски обслуживаем обывателя в его заботах о разделе имущества. Мы говорим: дерево принадлежит миру, а глаз, которым мы видим дерево, нам. Но глаз, которым мы видим дерево, так же принадлежит миру, как и само дерево. Глаз не просто видит мир, он есть мир. [53] Мир становится глазом, чтобы смотреть на себя и видеть себя. Мир превращается в кисть Рафаэля, замирает, как гений Рафаэля, на полотне, а как зритель — перед полотном, делается глазом зрителя и восторгается самим собой. Вряд ли художник Бернини подозревал о том, что он невольно пародирует, когда, решив однажды попробовать себя в жанре оперы, сначала оповестил об этом публично, потом нарисовал декорации, изваял статуи, соорудил механизм сцены, написал либретто, сочинил к нему музыку и построил здание театра. Мир становится человеком, а в человеке художником, — философом, полководцем, врачом, каменотесом, звонарем, пекарем, тружеником, лентяем, другом, врагом, праведником, злодеем, Сократом, Ксантиппой, чтобы осознать, что он вообще может, и на что вообще способен. Как камень, он бесчувственен и бездвижен. Как растение, он, хоть и подвижен, но привязан к земле. Как зверь, он свободен в движениях, но связан инстинктами. Как мы, он способен на всё («всё» — имя мира). Он может в нас (как мы) лгать, заблуждаться, кощунствовать, убивать и быть убитым, сходить с ума или притворяться сумасшедшим, залезать в шкаф, называя себя поэтом, и хрюкать оттуда; но в нас же (как мы) может он достигать неслыханных гармоний и изумляться вершине собственного становления и сущности.