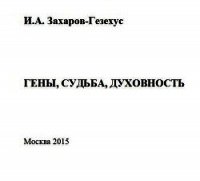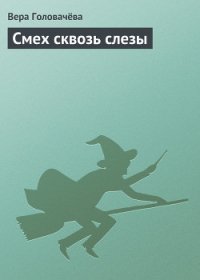Слёзы мира и еврейская духовность (философская месса) - Грузман Генрих Густавович (бесплатная регистрация книга txt) 📗
О Льве Шестове нельзя сказать, что он принадлежал к числу выдающихся философов, — таких как Шестов числа нет, он единственный и самозначимый настолько, что самые проницательные умы русской духовной школы, дабы отметить эту особенность считали Шестова не философом, а мыслителем (о. Сергий Булгаков сказал: «Если понимать под философией систематическое исследование в области философских проблем, их существа и истории, то Ш. отнюдь не являлся философом, что, однако, не мешает ему быть своеобразным мыслителем», а Бердяев высказался: «Фигура Л. Шестова очень существенна для многообразия русского ренессанса начала века»). О философах, если они деятели духа, любомудры, нельзя говорить «плохие» или «хорошие», ибо нам неизвестно иное значение этих определений, кроме обыденного нефилософского; вернее слова Эмиля Кроткого: «философы, как тарелки, — они либо глубокие, либо мелкие». Лев Шестов — исключение их этого правила, как исключение из всех философских правил вообще, и о нем можно сказать: Шестов плохой глубокий философ. Плохой потому, что, мысля, отвергал философский способ мышления, а глубокий потому, что отвергал философию через философию, мысль через мысль, разум через разум. Тонкий аналитик творчества Шестова А. М. Лаэарев начинает один из своих исследовательских этюдов на эту тему словами: «Философская мысль Льва Шестова так необычна, так неожиданна, так непохожа на то, что обыкновенно мы встречаем в философии, что ее можно не воспринять, как если бы у нас не хватало органа для восприятия ее. А когда кажется, что приблизился к ней, что уловил существенное, то вдруг замечаешь, что в результате усилия соскользнул на старую, обычную колею, как будто злые чары кружат и возвращают к месту, откуда вышел» (1993, с. 102).
Глубина же шестовского постижения, а заодно и «злые чары» его, находят отражение в степени нетривиальности и особости подхода к историческому познанию, — я считаю необходимым привести полностью суждение Шестова по этому поводу, поскольку оно напрямую касается фактологических претензий израильских историков к сочинению А. И. Солженицына. Шестов написал: «Чем руководствуется история в своих приговорах? Историки хотят думать, что они вовсе и не „судят“, что они только рассказывают „то, что было“, извлекают из прошлого и ставят пред нами забытые или затерявшиеся во времени „факты“, суд же приходит не от них, а сам собою, или даже что сами факты несут с собою уже суд. Тут историки не отличаются и не хотят отличаться от представителей других положительных наук: факт для них есть последняя, решающая, окончательная инстанция, после которой уже некуда апеллировать. Многие из философов, особенно, новейших, не меньше загипнотизированы фактом, чем положительные ученые. Послушать их — факт есть уже сама истина. Но что такое факт? Как отличить факт от вымысла или воображения? Философы, правда, считаются с возможностью галлюцинации, миража, фантастики сновидений и т. д. И все же мало кто дает себе отчет в том, что, раз приходится отбирать факты из массы непосредственных или посредственных данных сознания, это значит, что факт сам по себе не есть решающая инстанция, что в нашем распоряжении еще до всяких фактов есть некие готовые нормы, некая „теория“, которая является условием возможности искания и нахождения истины. Но что это за нормы, что это за теории, откуда пришли они и почему мы им так беспечно вверяемся? Или, может быть, нужно иначе спросить: да точно ли мы ищем фактов, точно ли факты нам нужны? Не являются ли факты только предлогом или даже ширмой, заслоняющей собой совеем иные домогательства духа? Я сказал, что большинство философов преклоняется пред фактами или пред „опытом“, но ведь были и такие — и далеко не из последних, — которые ясно видели, что факты в лучшем случае лишь сырой материал, подлежащий обработке или даже переработке и сам по себе не дающий ни знания, ни истины» (2001, с. 7-8). Шестов с удовольствием повторяет афоризм Гегеля: «Если моя теория не согласуется с фактами, — то тем хуже для фактов».
Выдающийся полемист, Шестов держал в своем поле зрения весь философский багаж человечества и в отличие от западных производителей мудрости не ограничивался европейским пространством, а большую часть времени обретался на русской стороне. Специфическое воззрение Шестова базировалось не только на указанной нетривиальной методологии, но и на оригинальном способе ведения дискуссии, когда на оппонента обрушивается град тяжелых, как авиационные бомбы, вопросов. Шестов есть гений отрицательного знания и потому-то ему так дорог Фридрих Ницше (кстати, в русской школе никто, кроме Шестова, не принимал ближе к сердцу мечущуюся душу немецкого мыслителя). Для Шестова не существовало авторитетов и его разительной критике подвергались в равной степени Сократ и Спиноза, Соловьев и Бердяев, Декарт и Аристотель, Кант и Гегель. Но несмотря на столь широкий диапазон интересов Шестова, верным остается определение С. Л. Франка: «он — человек одной идеи», и Бердяев с полным знанием рисует духовный портрет Шестова: «… Л. Шестов был моноидеистом, человеком одной темы, которая владела им целиком и которую он вкладывал во все написанное им. Это был не эллин, а иудей. Он представляет Иерусалим, а не Афины… Его тема связана с судьбой личности, единичной, неповторимой, единственной. Во имя этой единичной личности он борется с общим, с универсальным, с общеобязательной моралью и общеобязательной логикой» (2001, с. 696). Воистину Бердяев прав: для Шестова человеческая личность во всех отношениях суть sanctum sanctorum (святая святых) и он возводит в правило, что «человек всегда должен поступать индивидуально и индивидуально разрешать нравственную задачу» и главное — «быть до конца личностью и личности не изменять… есть абсолютный нравственный императив» (1964, с, 272). Именно поэтому Лев Шестов должен числиться в идеологах русской идеи.
У философов пользуется большим спросом изречение Б. Спинозы: «Quam aram parabit sibi qui majestatem rationis laedit?» (какой алтарь уготовит себе тот, кто оскорбляет величие разума?). Этим вопросом-утверждением возвещается наивысшее достижение европейской философской мысли: верховенство человеческого разума; многообразными своими атрибутами — истинами, законами, знаниями, наукой — разум учреждает всемогущество и всеобщность в духовной сфере человечества, вне зависимости от того, является ли эта сфера производной от материальной либо наоборот. И Прометеем, бросившим вызов Зевсу-Спинозе, стал Лев Шестов, когда убедился, что во всех производных разума в основе полагается принуждение, некое универсальное общее, обязательное для всех индивидов. Здесь во всю мощь раскрылся шестовский метод «тяжелых вопросов»: «Станет ли истина истиннее от того, что ее благословил Аристотель, или превратится в ложь потому, что ее предал проклятию Платон? Разве дано людям судить истины, решать судьбы истин? Ведь наоборот: истины судят людей и решают их судьбы, а не люди распоряжаются истинами. Люди, великие и малые, рождаются и умирают, появляются и исчезают, истины же пребывают» (2001, с. 27). Именно такую мысль об истине как принуждении обнаруживает Шестов у Аристотеля и всей античной философии эллинов: «Аристотель твердо знал: истине дана власть нудить, принуждать людей — всякого человека, безразлично, будет то великий Парменид или великий Александр, будет то неизвестный раб Парменида или ничтожный конюх Александра». Аристотель не только знал, но и доказывал, что принуждение по самой своей природе суть насилие и необходимость и, как он говорит: "Насилие и принуждение, а таково то, что мешает и препятствует в чем-либо вопреки желанию и собственному решению. В самом деле, насилие называется необходимостью; поэтому оно и тягостно, как и Эвен говорит: «Коль вещь необходима, в тягость нам она». И принуждение также есть некоторого рода необходимость, как и сказано у Софокла: «Принуждение заставляет это свершить» (1975, т. I, с. 151). Итак, принуждение, насилие и необходимость есть те внешние силы, которые привносит с собой верховенство разума для каждой человеческой души, ограничивая и принижая ее творческий кругозор, загоняя ее в предуготовленные шаблоны мышления. Шестов, будучи отличником русской духовной школы и воспитанный в полнейшем почтении к индивидуальной человеческой персоне, не мог не возмутиться столь явным посягательством на святые институты личности и выступил в крестовый поход против бастионов всемогущества разума и его войска (истин, знаний, законов, принципов, науки), а заодно и против философии, соорудившей эту концепцию. На философское общество обрушивается град эпатирующих выводов Шестова, разрушающих все передовые редуты европейского интеллекта: «Разум, который мы считаем своим естественным светочем, ведет нас к гибели. Закон, на который мы опираемся, как на незыблемую твердыню, только умножает преступления»; "Знание не принимается как последняя цель человеческая, знание не оправдывает бытия, оно само должно получить от бытия свое оправдание. Человек хочет мыслить в тех категориях, в которых он живет, а не жить в тех категориях, в которых он приучился мыслить: древо познания не глушит более древа жизни. , В другом трактате Шестов прибегает еще к более безжалостным оборотам: «Философы ужасно любят называть свои суждения „истинами“, ибо в таком чине они становятся общеобязательными. Но каждый философ сам выдумывает свои истины. Это значит: он хочет, чтобы его ученики обманывались по выдуманному им способу, право же обманываться на свой манер он оставляет за одним собой»; «Законы — все — имеют регулирующее значение и нужны ищущему отдыха и поддержки человеку. Но первое и существенное условие жизни — это беззаконие. Законы — укрепляющий сон. Беззаконие — творческая деятельность»; «Наука полезна — спору нет, но истин у нее нет и никогда не будет. Она даже не может знать, что такое истина и накопляет лишь общеобязательные суждения» (2001, с. с. 28, 298, 21, 367-368, 402, 467).