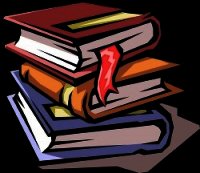Конец стиля (сборник) - Парамонов Борис Михайлович (бесплатные версии книг txt) 📗
Моэм писал, что величие литературы определяется не столько числом гениев, сколько общим напором ее культурной массы. В Чехословакии Чапек мог бы один представлять всю эту массу — и не потому, что там, кроме него, талантов не было: он наиболее из всех был культурен, персонифицировал самый принцип культуры.
Дело даже не в том, что Чапек был способен писать, и хорошо писать, все: от романов и пьес до газетных фельетонов. Дело в том, что он очень умело обратил литературный труд, этот в высшей степени подозрительный промысел, в занятие культурное, когда этот труд предстал всего-навсего специализированной отраслью общечеловеческой работы. Чапека как-то очень легко подверстать к «научно-техническому прогрессу», в котором заслуги Уэллса неотделимы от заслуг Дизеля. Чапек работал в той же мастерской, что и все «культурное человечество», — как раз эта работа и стимулировала, как ничто другое, миф о прогрессе, оптимистический миф. Чапек — поэт, взятый в работу, и не каким-нибудь сомнительным «социальным заказом», а собственным пониманием общекультурного значения своего дела. Это очень высокий просветитель; точнее — тип просветителя на высшей эволюционной точке этого движения.
Важно и другое. Чапек — явление демократической эпохи и не мог бы появиться в другую. Скажем резче: он не мог не появиться в демократическую эпоху. И громадное литературное дарование Чапека не развернулось в гениальность именно по этой причине. Чапек слишком был предан идеалам свободы, равенства и братства, чтобы стать гением. По-другому: он был слишком умен, культурен, благовоспитан и порядочен, слишком «хороший человек». В этих бесспорных добродетелях растворился его талант, вернее, был ими разбавлен. Питье получилось вполне доброкачественное: не водка, а карлсбадская («карловарская») вода.
У Набокова в «Даре» мелькает персонаж, о котором сказано, что у него слишком добрые глаза для писателя. Эзра Паунд, предпочитавший Муссолини Джефферсону, говорил, что писатель должен быть сукиным сыном. Любимым мыслителем корректнейшего и респектабельнейшего Т. С. Элиота был Шарль Моррас, в послевоенной Франции севший на скамью подсудимых (а ведь Моррас не просто теоретизировал, он создал весьма энергичную организацию Action Franciase, [12] бившую не только стекла, но порой и головы); и если Элиот сам не сел на скамью подсудимых — в отличие от Гамсуна, допустим, — то скорее всего потому, что ему посчастливилось не побывать на оккупированных территориях.
Чапек же — человек Джефферсона: буколический сельский хозяин, правда, знающий, что такое трактор.
В отношении Чапека иногда задаешься вопросом: а какой он, собственно, национальности? Его хочется назвать неким «среднеевропейцем». Кто-то острил в свое время, что Эренбург пишет из жизни среднеевропейско-дипломатической; тогда Чапек, можно считать, пишет из жизни средне-европейско-буржуазной. Чех? А почему бы не голландец — «малый голландец», конечно? Если Советский Союз называли в стародавние времена отечеством мирового пролетариата, то уж Голландия действительно стоит звания отечества мировой буржуазии. Чехи, Чехия — и впрямь середина. Посредственность? О, нет. Но равнодействующая, общий знаменатель и, если угодно, итог. Культура «исполнилась» в Чехословакии Чапека. «Исполнение» значит также «наполнение». Нужно быть по крайней мере снобом или «блазированным миллионером», как называли Герцена, чтобы испугаться «китайской неподвижности» буржуазного существования, — как испугался Герцен на примере, кажется, той же Голландии. И если продолжать разговор о «национальности» Чапека, то я и Англию даже бы вспомнил. Конечно, страна эта не «малая» и не «средняя», тем более не посредственная; но она особенно важна для Чапека вот по какой причине. Англичане умели делать свою буржуазность эксцентричной, артистичной. А это уже формула Чапека. И еще одно «английское» качество от него неотделимо: уют. Как объяснил сам Чапек, таковой связан как раз с малостью, крошечной изящностью, точнее, с намеренным уменьшением предмета: идея английского садика при townhouse или английского же камина. В Англии никогда не будет революции, потому что там некрасивые улицы, писал Чапек; и люди спешат уйти с улиц в дома, к «очагам». «Надстройкой», реактивным образованием была империя (где она сейчас?). А Чехия изначально мала. Она, по определению, часть — Австро-Венгерской империи. Уютным было уже вот это сознание собственной «частичности», ощущение «угла» (отнюдь не медвежьего); отсюда и ностальгия по Габсбургам, хотя бы у Йозефа Рота. Это стимулировало детскость: чтобы построить собственный мир, ребенку достаточно залезть под стол, говорит Чапек. Чехи и всегда «сидели под столом», пока их оттуда насильно не вытащили. Но тогда Чапек умер.
Еще об Англии и еще о детскости. Об англоманстве Чапека рассказывали анекдоты. Оно понятно как идентификация подростка со взрослым, родственную связь с которым он ощущает. Связь эта, как уже сказано, — установка на «уют», сознательная «игра на уменьшение», ироничная у одних, органичная у другого. Легко доказать, что Чапек — подражатель Честертона: и в мировоззрении, и в жанрах. Нужно, однако, подчеркнуть органичность такой имитации. Честертон недаром был врагом империи, защищал ирландцев и буров. Дело не в политике: у него была регрессивная установка, то есть побег в то же детство. Восторг Честертона перед элементарными реалиями бытия — это восторг ребенка, впервые увидевшего мир. Отсюда же чисто детская и, я бы сказал, демократическая доброжелательность, готовность и способность жить в мире с такими интересными людьми, как деревенский столяр или конюх. У Честертона подчеркнута коммунальная основа демократии.
Чапека, однако, не стоит помещать в детсадовскую группу. Это именно подросток, причем подросток деятельный и мастеровитый. Это для него придумана игра «конструктор» и написана книга «Занимательная химия». Он растет в эпоху научно-технического прогресса. Этапы роста: велосипед, автомобиль, аэроплан. Он увлекается фотографией. Естественно, он собирает марки (смутное предчувствие раскрывающегося мира и одновременно — все то же сведение большого к малому). Коллекционирует кактусы и ковры. Даже в этом последнем, вполне буржуазном занятии мы вправе видеть элементы той же подростковой психологии: способность быть увлеченным, забыть про обед, гоняя мяч во дворе.
В том-то и дело, что чехи про обед никогда не забывали. Это, если можно так сказать, солидные подростки, единственное назначение которых — выйти во взрослые люди. Странно, что у Чапека не заметно следов увлечения кулинарией. Он не был толстым, каким вроде бы положено быть чеху, даже на знаменитом пиве не раздобрел. И тут опять — некая червоточина, знак «избранности», следовательно, обреченности. Снова возникает тема ранней смерти. Вспомним, что даже в тридцатые годы не было культа поджарости и полнота, а не худоба считалась признаком здоровья. «Как вы поправились!» — это был комплимент.
«Он был похож на мальчика-толстяка», — пишет Олеша об Андрее Бабичеве. Именно так: не Кавалеров, но Андрей Бабичев, не поэт, а «творец добрых дел». В отличие от Белинкова, я не стану терять пломбы от последнего определения: такие большевики в свое время были; тогда это называлось конструктивизмом и было впрямую связано с Западом. Западнический уклон в большевизме, несомненно, существовал: Бухарин со «Злыми заметками». Пьянке отказывали не только в моральной санкции, но даже и в поэтичности. Мариэтта Шагинян, примыкавшая к этим самым конструктивистам, учила радоваться жизни при виде хорошо начищенных башмаков. Из всего этого, действительно, мог бы выйти со временем какой-нибудь вполне пристойный социализм. Увы, Россия не Чехословакия. Есенин «гениальнее» Чапека. Хорошо это или плохо? Что нужнее человечеству: великая литература или пристойная жизнь? И кто решится однозначно ответить на этот отнюдь не риторический вопрос?
У Эренбурга в ранних изданиях «Визы времени», в очерках о Польше есть еретическая по нынешним временам мысль: о том, что великое искусство возможно только в большом («великом») государстве, в сущности — имперском. Краков красивей Лодзи или даже Варшавы именно по этой причине. Возражение появляется мгновенно: а Норвегия с Ибсеном, Григом и Гамсуном? Тут можно, однако, сказать если не о величии государственности, то об экстремальности природы, о пресловутых фьордах («Скандинавский альманах»!); да и не вспомнить ли о фашизме в связи с Гамсуном — не как о программе, а как о показателе неумеренности, неблагопристойности гения? Да и чеха вспомнить можно: Гашека; при всей несделанности «Швейка» вещь эта несет на себе печать гениальности — потому что Гашек, в отличие от Чапека, бунтарь, мистификатор и бродяга, а не корректный гражданин корректного демократического государства, не поклонник президента Масарика, а коммунист.