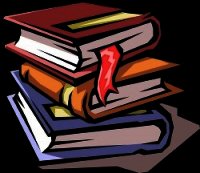Конец стиля (сборник) - Парамонов Борис Михайлович (бесплатные версии книг txt) 📗
Одним словом, Чехова нужно понять. Я решаюсь сказать, что до сих пор он не был понят.
Получилось так, что Чехова не к чему привязать — как, к примеру, Пушкин привязан к Николаю I («поэт и царь»), а Толстой — к русской деревне («зеркало русской революции»). Даже эти, достаточно примитивные, этикетки делают какую-то работу — они выводят обоих за грань «только литературы», дают какую-то общекультурную ориентацию Пушкина и Толстого. С Чеховым этого нет, потому что мы не знаем его эпохи, — на ее месте зияет пустота, которую мудрено заполнить даже тому, кто, в общем, понимает вздорность определения чеховского времени исключительно как «эпохи реакции». В русской истории мы настолько привыкли к «событиям», что промежуток 1881–1905, на который как раз и падает творчество Чехова и когда «ничего не происходило» (лучшее, что можно пожелать художнику в смысле эпохи), кажется нам и в самом деле пустым местом или, в лучшем случае, чем-то тусклым, бесцветным («сумеречным», и «хмурым»). Эта аберрация определяет собой наше восприятие Чехова. Между тем эпоха Чехова была из тех, которые называются «органическими» (в противоположность «критическим»), — когда происходит действительный рост культуры, идет движение ее вглубь. Это живой процесс, независимый от какой-либо политики.
Константин Леонтьев говорил, что самое понятие «реакция» должно быть пересмотрено: всякая реакция — признак живого, реакций не бывает только у трупа. Не нужно делать труп из эпохи Чехова. Нужно увидеть ее позитивное содержание. Мы бы определили это содержание как вестернизацию демократических слоев русского общества. Русский дворянин — а за ним и деклассированный интеллигент — был западником или славянофилом. Русским европейцем (не западником!) суждено было стать низовому человеку, далекому от движений столичной квазиевропейской жизни. Подлинная европеизация России происходит там, где ее и по сию пору не заметили историки: в глубине русской жизни, в провинции. Чехов — одновременно — и символ, и реальное достижение этого процесса.
В русской политической истории начала века имело место событие, пролившее свет и на эпоху Чехова, шире — на смысл и содержание русской жизни после 1861 года: реформа Столыпина. Несомненно, она давала воодушевляющую перспективу, но в то же время была очень значима ретроспективно. Мартин Бубер говорит, что основной функцией политики является не изменение состояний, а регистрация и санкционирование произошедших изменений. Столыпинская политика проводилась во время первой русской революции и потому неизбежно была обставлена некоторыми нежелательными декорациями («правительственный террор», всегда менее симпатичный, чем террор революционный), но в своей сути это была либеральная и западническая (лучше сказать — европейская) политика. Она распространяла достижения предшествующего периода — гражданское освобождение — на все русское население, переносила европейские социальные и правовые нормы в толщу русского крестьянства. Так закреплялись успехи предыдущего периода: вестернизация русской жизни на ее низах, в ее таганрогской глуши.
В жизни Чехова его хлопоты по установлению памятника Петру I в Таганроге имели символический смысл. Можно сказать, что «петербургский период русской истории» сменился «таганрогским»: русская провинция выходила на свет мировой культуры.
В Чехове интересен прежде всего этот русский провинциал. Войдя в столичную литературу, он занял в ней новое и независимое положение между сходящей на нет дворянской культурой и культурой интеллигентской, которая, собственно, была не культурой, а идеологией. Он сам остро сознавал свою чуждость как той, так и другой: например, как уже упоминалось, объяснял свое неумение написать роман недворянским происхождением; что касается интеллигентской субкультуры, — у Чехова сразу же выработалось сатирическое отношение к ней (один из примеров — рассказ 1886 года «Хорошие люди»). Совсем не случайным было тяготение Чехова к правой прессе (дружба с Сувориным). Очень выразительным было также тогдашнее толстовство Чехова, заостренное прежде всего антиинтеллигентски: вчерашний «мужик» (одно из чеховских самоопределений) искал себе соответствующую идеологию. Но интересно, что Чехов, осторожный, как всякий выходец из низов, довольно скоро изменил эту позицию: почувствовал, что нужно ладить с людьми, господствовавшими в тогдашней «серьезной» журналистике.
Не нужно, однако, думать, что сближение Чехова с либеральной журналистикой объяснялось только такими тактическими соображениями. Отталкиваясь от интеллигенции в быту, не приемля ее антихудожественный житейский облик, он не мог не разделять ее идеалов. Чехов ценил в себе «университетского человека», защищал в письмах к Суворину материализм и повторял все ученые благоглупости того времени (вроде того, что вскрытие трупов души не обнаружило). В этом поклонении интеллигентским фетишам его провинциализм сказывался наихудшим образом.
Но провинциализм, мещанство Чехова имели и другое измерение. Это был резервуар его художественного творчества — и отнюдь не в сатирическом плане. Можно сказать, что лучшие вещи Чехова обязаны своим происхождением поэзии мещанского быта. То, что такая поэзия существует, нельзя оспаривать после Розанова, у которого она была осознана, провозглашена, подчеркнута. В Чехове, однако, ее не замечают и не сознают — как не замечал и не сознавал ее он сам.
Выразительнейший пример — с «Душечкой», восторженно оцененной Львом Толстым, который, в отличие от автора рассказа, не был связан интеллигентской идеологией; но самого Чехова не убедили толстовские восторги, он продолжал считать «Душечку» чуть ли не сатирой на «неразвитую» женщину.
«Розановский» пласт необыкновенно значим у Чехова, в нем родились лучшие его сочинения. Интересно, что одно из них он и сам считал лучшей своей вещью — рассказ «Студент». Напомню, что речь в рассказе идет о кануне Пасхи и Страстях Христовых. Бытовая церковность — одна из важнейших составляющих духовного облика Чехова. Страсть его к церковной службе, церковному пению нельзя не заметить, но она не привлекала до сих пор внимания (разве что Б. Зайцева, не сумевшего, однако, должным образом оценить этот факт). Я чрезвычайно далек от навязывания Чехову какого-нибудь «нового религиозного сознания», — Чехов не был религиозным человеком. Его церковность важна как стилистическая деталь; это и было «розановское» в нем — бессознательное тяготение к сладостному мещанскому быту. И в его творчестве вещи этого «мещанского» цикла, как «Душечка», «Студент» или «Бабье царство», резко противопоставлены «интеллигентскому» циклу, давшему, например, такой артефакт, как «Палата № 6».
То, что «серьезные» повести Чехова — не лучшие из его сочинений, замечали как современники Чехова (вроде Щеглова-Леонтьева), всегда острее видящие детали литературного процесса, так и наиболее изощренные истолкователи (Виктор Шкловский в «Теории прозы»).
Предлагаю обратить внимание на характернейшую в бессознательно-психологическом плане вещь Чехова — святочный рассказ «Сапожник и нечистая сила». Этого сочинения, как известно, Чехов стыдился, его, несомненно, мучила совесть «университетского человека». Между тем этот рассказ — автопортрет Чехова, его самооценка, опыт самопонимания. Сапожник Федор Нилов, продав душу черту, попадает из грязи в князи. Он хочет играть на гармошке, но его останавливает городовой: господам не положено. Стоит ли говорить, что этот городовой — интеллигентская «идейная» критика.
Кажется, только немудрящий Лейкин правильно понял «Сапожника и нечистую силу», сумел оценить ее важность, характерность для Чехова. Он связал эту вещь с толстовством Чехова, одно время неоспоримым у него. Характерно это тяготение к Толстому: критика «господской» культуры, шедшая не от какого-нибудь Гольцева, а от самого крупного из русских людей.
Вещью автобиографической кажется мне у Чехова еще одна — «Каштанка», с ее ностальгией по столярному клею и древесным стружкам. Это не значит, конечно, что Чехов — художник, артист — не любил цирк.