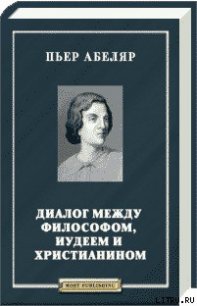Ульмская ночь (философия случая) - Алданов Марк Александрович (книга бесплатный формат TXT) 📗
Л. - А два другие?
А. - Федоров и Розанов. И если б я не боялся схем, всегда все огрубляющих, я сказал бы: Леонтьев из Платоновского принципа фактически так или иначе принял только "красоту", Федоров принял только "добро", а Розанов не принял ни того, ни другого. Мне трудно говорить о Федорове, так как его основное учение я понимаю еще гораздо меньше, чем страницы об Андрогинизме у Соловьева. Федоров и в мировой литературе совершенно ни на кого не похож, хотя бы и отдаленно, - случай, можно сказать, единственный. Скажу больше: он ненавидел традиции европейской мысли. Гегель, любимец русских философов и философствующих писателей, как "левых", так и "правых", был для него поистине bete noire. В отношении к Гегелю у этого подлинного праведника появляется и нечто похожее на личную ненависть. Он пишет: "Гегель, можно сказать, родился в мундире. Его предки были чиновники в мундирах, чиновники в рясах, чиновники без мундиров - учителя, а отчасти, хотя и ремесленники, но, тоже, цеховые. Все это отразилось на его философии, особенно на бездушнейшей "Философии Духа", раньше же всего на его учении о праве. Называть конституционное государство "Богом" мог только тот, кто был чиновником от утробы матери. Нельзя читать без глубочайшего отвращения определения его "Логики" или "Феноменологии", если переложить в них живые, конкретные" (227)... Не думаю, чтобы позволительно было такими доводами отмахиваться от грандиозной системы, сыгравшей огромную роль в мировой истории мысли. Еще хуже было его отношение к другому, более позднему, западному любимцу философской или философствующей России: "Amor fati", говорит Федоров, - "это формула величайшего унижения, падения человека ниже зверя, ниже скота, ниже самого Ницше"! (228). Было ли тут что-то от избытка национализма или от нелюбви к немцам? Ни в малейшей степени. Федоров собственно ненавидел и русскую литературу: "Так называемая русская литература, называющая наше царство темным, наши города "Глуповыми" и т. п., не есть ли только "Россика", т. е. сочинение иностранцев о России, а не подлинных сынов русского народа" (229). Вы скажете, он имел в виду лишь обличительную литературу Щедринского образца и ненавидел ее, как "подлинный сын", из любви к старым устоям. Тоже ни в малейшей степени. Он и Гоголя, и Толстого, и даже "светлого" Пушкина, никак не обличителя, считал - правда, лишь "в некоторых отношениях" (спасибо и на этом) - "иностранцами, пишущими о России" (как он Ницше почему-то считал "русским, пишущим о Германии и вообще о западе"). Что ж делать, у них не все "добро", есть и "красота". Тут уместно было бы вспомнить те замечательные слова Нила Сорского, которые я вам уже приводил: "И доброе на злобу бывает ради безвременства и безмерия". Я знаю, Федоров был замечательный человек, истинный подвижник, приближавшийся по человеческому типу к Нилу Сорскому. Вероятно, именно этим он производил огромное впечатление на людей, даже на Льва Толстого, который гордился тем, что живет в одну эпоху с Федоровым. Но все-таки к чему все это Федорова привело? Не касаюсь его критики Апокалипсиса, которую Бердяев считает гениальной. Все же главное в его философии это теория воскрешения мертвых. Бердяев ее обходит молчанием и мягко замечает, что в ней "есть, конечно, элемент фантастический". Действительно, есть. Позвольте вам напомнить: "Радикальное разрешение санитарного вопроса состоит в возвращении разложенных частиц тем существам, коим они первоначально принадлежали... Таким образом, вопрос санитарный, как и продовольственный, приводит нас ко всеобщему воскрешению. Обращая бессознательный процесс рождения и питания, в действие, во всеобщее воскрешенье, человечество через воссозданные поколения делает все миры средствами существования... С другой стороны, только таким путем избавится человечество и от всеобщей смертности, явившейся, как случайность, от невежества, следовательно от бессилия, и чрез наследство сделавшейся врожденною, эпидемической болезнью, перед которой все прочие эпидемии могут считаться спорадическими болезнями. Смертность сделалась всеобщим органическим пороком, уродством, которое мы уже не замечаем и не считаем ни за порок, ни за уродство. Смерть некоторые философы не хотят признать даже злом на том основании, что она не может быть чувствуема, что она есть потеря чувств, смысла; но в таком случае и всякое отупение, безумие, идиотство нужно исключить из области зла, а чувство и разум не считать благом" (230). Повторяю, не могу понять. И достаточно прочесть его произведение, чтобы исключить возможность какого-либо фигурального или символического толкования его мыслей о "воскрешении". Нет, он своему учению придавал смысл буквальный. В этом "санитарном" подходе к бессмертию есть и довольно грубый материализм. Нам, конечно, было бы здесь бесполезно возвращаться к сопоставлению "Intellige ut credas" и "Crede ut intelliges". Этот спор не был закончен, конечно, и знаменитыми возражениями Джона Стюарта Милля Виллиаму Гамильтону, со всеми разбиравшимися Миллем примерами, вплоть до несколько наивного "мы знаем, что мы существуем, что существует наш дом, наш сад в тот момент, когда мы на них смотрим, и мы верим, что существуют русский царь и остров Цейлон" (231). Но ни к одному варианту мнений, высказанных в этом вековом споре, учение Федорова не относится. Разве только к "credo quia absurdum"? Или вы это положение считаете русской идеей?
Л. - Я никак не ставлю себе задачей защищать Федоровское учение о воскрешении мертвых. Все же напомню вам страницу о "прахе" в главе о смерти у Шопенгауера: "прах" живет и будет жить, вечно меняя форму (232). Вы не станете говорить, что и у Шопенгауера "credo quia absurdum"?
А. - Не стану, потому что у него этого нет и в помине; он не "воскрешает" праха, т. е. не обращает его в прежнее человеческое существо, он говорит о дальнейших вечных превращениях разлагающейся материи. Не скажу, чтобы эта глава гениальной книги была особенно утешительна, да Шопенгауер, как вы знаете, никогда особенно и не старался утешать человечество. Федоров же верно пытался утешить нас - и особенно себя. Но уж, конечно, его учение еще гораздо менее утешительно, чем эти незабываемые шопенгауеровские страницы.
Л. - Вы упрощаете учение Федорова и, главное, берете в нем не самое ценное. Но даже в мысли о "санитарном" воскрешении людей есть доброе зерно. Он выражал ее словами, что природу в ее нынешнем виде нельзя признавать созданьем Бога, поскольку в ней божественные предначертания либо не выполнены, либо искажены. Федоров это приписывал частью незнанию, частью безнравственности людей. С первой частью утверждения - в другой словесной оболочке - согласились бы и Пастер, и Ньютон. Он был не так не прав, говоря в данном случае и о безнравственности. На те миллиарды долларов, которых стоят атомные бомбы и все с ними сходное, можно было бы кое-что в природе и "переделать"... Но уж во всяком случае вы должны признать, что и Леонтьев, и Федоров могут считаться доказательствами бескрайности русских идей.
А. - Да ведь я и говорю вам, что они составляют в истории русских идеи исключение. Третье исключение: Розанов. Как и Леонтьев и в отличие от Федорова, он был очень одаренный писатель. Этим, конечно, а не своими философскими сужденьями, он завоевал русскую критику или во всяком случае значительную ее часть. Как ни смешно сравнивать его с Паскалем (а это сравнение было сделано очень авторитетным человеком), талант у него был большой. С ним однако вышло недоразумение, продолжавшееся приблизительно полстолетия. У Розанова были поклонники и в либеральном лагере. Все же кумиром он был преимущественно для людей консервативных взглядов. Он писал и в "Русском Слове", но главные его читатели были в "Новом Времени": завоевал консервативную Россию Розанов, а не Варварин (как вы помните, под этим псевдонимом он писал в либеральной газете). И ее кумиром оказался совершенный нигилист. Иначе я не могу назвать автора "Апокалипсиса нашего времени". Живя в Сергиевском Посаде, он написал богохульную книгу! С В. С. Печериным, автором "Замогильных Записок", случилось в этом отношении нечто сходное: он, став католиком, пробыв двадцать лет монахом, писал: "Вот это христианство! Оно прошумело несколько столетий, пролило потоки крови в бессмысленных войнах, сожгло миллионы людей на кострах, и теперь издыхает от старческого изнеможения". Но о нем я говорить не хочу и не только потому, что он так смело и бесцеремонно похоронил христианство: Печерин вообще вне русской культуры, и писал он немного, и нигилистом он все-таки не был. Но я рад тому, что оба они, столь друг на друга непохожие, сами себя, каждый по своему, исключили из русской философской традиции.