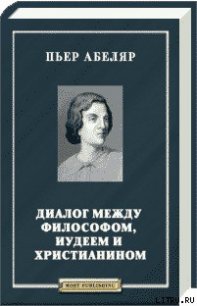Ульмская ночь (философия случая) - Алданов Марк Александрович (книга бесплатный формат TXT) 📗
Л. - Так вы вашу идею готовы обосновывать и примерами из всех искусств. Тогда сначала наметьте и тут вашу "табель о рангах".
А. - Я считаю, что Толстой был величайшим русским прозаиком, Чайковский величайшим русским композитором, Врубель величайшим русским художником.
Л. - Врубель был поляк.
А. - Да, полуполяк, хотя уже его отец почти не знал польского языка. Мать же его была чисто русская, Басаргина, родственница декабриста... Но доводы этого рода позвольте вообще отклонить. Надеюсь, вы не исключаете из русской культуры французов Леблона, Фальконета, Монферрана, Томона, итальянцев Фиоравенти, Растрелли, Росси, полунемцев, а то и чистых немцев, Герцена, Фонвизина, Тона, шотландца Камерона, евреев Левитана и Рубинштейнов, полуевреев Серовых и Мечникова, людей смешанной крови Чайковского, Бородина, Брюллова, чтобы не упоминать "негра" Пушкина, "шотландца" Лермонтова и многих "татар". Вероятно, вы не исключаете из французской культуры Монтэня, Руссо, Зола, а из испанской - Доменико Теотокополи, создавшего себе мировую славу под именем Эль Греко. Прочтите обо всем этом у Грабаря. Отмечу еще, что Кондаков находил невозможным установить по знаменитым фрескам киевского Софийского собора национальность их создателя: славянин, варяг или грек (212). Слишком много значения в нынешнем мире приписывают "крови". В старину, в средние века, еще раньше это людей интересовало гораздо меньше.
Л. - Тут вы совершенно правы. Простите, что ни к чему вас перебил.
А. - Я готов продолжать табель о рангах, относя ее и к родам русского искусства. По-моему, русская архитектура занимает в нем место, разве только немногим уступающее русской литературе и много высшее, чем русская живопись. Она имеет мировое значение, тогда как русская живопись его не имеет. Вероятно, это связано с "бессюжетностью" архитектуры вообще. Растрелли в своем гениальном ансамбле Смольного Монастыря сказал новое слово, сочетав римское барокко с русскими монастырскими формами. Но если б он каким-либо чудом и знал, что произойдет с его созданием в 1917 г., это едва ли имело бы для него очень большое значение. Так же и Баженов не знал, что в своем необыкновенном дворце готовит гроб для заказчика, императора Павла. Гваренги и Томон строили биржу в форме храма, и с точки зрения их "красоты-добра" это было не очень важно...
Л. - Считаете ли вы, что "предметность" русской живописи была достоинством или недостатком? Скажем, предметность передвижников, о которых Александр Бенуа, помнится, говорил, что они конфузливо писали картины, потому, что не умели шить сапоги?
А. - Есть предметность и предметность. Картины Иванова или лицо Ивана Грозного на картине, над которой долго потешались наши эстеты, вполне соответствует моему пониманию искусства. Лично я склонен думать, что живопись везде к предметности вернется, с поправками и новшествами конца девятнадцатого столетия. В русской же живописи, по-моему, выше всего портрет или то, что в ней его включает, - здесь тоже сказалась "тяга" к человеку и к его душе. И, быть может, та же тяга отчасти объясняет высоту русского зодчества, - архитектура, дающая людям и кров, человеческое искусство par excellence. В России она продолжала западное творчество, не боялась и не стыдилась этого, и в значительной мере его обновила, сочетав с русской стариной, доведя, например, ампир до высших в мире образцов, создав ансамбли, которым я знаю мало равных. Не говорю уже о Смольном Институте, но и в обычно забываемом Киеве площадь древних строений, Софийского Собора и Михайловского монастыря, есть нечто неповторимое, как, пожалуй, и на несколько веков позднейший ансамбль императорского дворца с Мариинским парком и Царским садом. Растрелли и Мичурин учли Днепр и киевские холмы, как Флорентийские архитекторы учли свои холмы и Арно, а венецианцы - Большой канал и остров Сан-Джорджио. То же относится и к Лавре и в меньшей степени к Военно-Никольскому собору, к нескольким ансамблям Печерска, которые когда-либо будут оценены и иностранцами.
Л. - Что ж, по-вашему, именно эти ансамбли выражают идею красоты-добра?
А. - Зачем тут иронизировать? Они и многое другое: в архитектуре, кроме Смольного, Собор Василия Блаженного, в живописи творчество Врубеля, в частности его киевские фрески, с их новой, по-моему, концепцией, если не Красоты, то Добра. Его голова безбородого Моисея на редкость напоминает голову Демона:
сходство, конечно не случайное. Таков же и ангел со свечой, таков же "Падший Демон", таков же, по крайней мере по замыслу, его пушкинский Пророк. Отметить зло в ангеле, отметить добро в демоне, это идея чисто русская и, кстати сказать, противоположная бескрайностям: умеряющая, не слишком восторженная, - мир не делится на черное и белое. Это тоже ведь из Нила Сорского.
Л. - Зародыш этой идеи есть и в живописи Леонардо да Винчи, у которого Вакх похож на Иоанна Крестителя... Сходство у Врубеля могло тут происходить от единства его художественной натуры или даже просто от единства в манере и приемах. Вообще трудно из пластических искусств делать сложные идейные выводы. Закончим же табель о рангах. Кто же величайших русский философ?
А. - Вы, вероятно, скажете: Владимир Соловьев? Он, конечно, был, быть может вместе с Франком, самым универсальным из русских философов (в тесном смысле этого слова), а может быть, и самым даровитым. Почти все системы нашего времени так или иначе, в большей или меньшей мере, вышли из Соловьева, хотя бы от него отталкиваясь. А сам он из русских ни из кого не вышел: влияния на него главным образом иностранные, от Платона до Баадера. Как у Бердяева, у Соловьева было несколько философских учении. Не даром биографы и исследователи делят его уже на периоды, - кто на три, кто на четыре. Это деление, кстати сказать, лучший признак славы, - кажется, из русских философов никто другой его пока не удостоился. Верно, удостоится Бердяев, и у него "периодов" можно будет установить десять или еще больше... Я люблю Соловьева и как поэта, - это верно вызовет улыбку у некоторых современных поэтов. Люблю и как публициста, и даже как критика, - его статья о Пушкине, как бы к ней ни относиться по существу, одна из самых важных статей, когда-либо о Пушкине написанных. Это такой же удачный набег философа в область литературы, как статья о Чехове Льва Шестова. Я сказал бы даже, что и в области точного знания Соловьев порою высказывал мысли, опередившие его время. В своих размышлениях об атомизме он намечает различие не только между атомами Демокрита и атомами ученых 19-го века (что было бы не очень ново), но и различие между атомами химика и физика, "отнимающее у физических теорий атомизма, как противоречащих друг другу, всякое обязательное значение для философа"... Так же откровенно признаюсь, что многого я у Соловьева просто не понимаю. Совершенно не понимаю его учения об андрогинизме. Не понимаю единения Абсолюта с Первоначалом, различий между "понятием и тем, что в нем выражается", между первым и вторым полюсами абсолютного.
Л. - Только ли он писал таким языком! Это язык новейшей философии, и насмехаться над ним было бы так же странно, как иронизировать над языком новейшей физики.
А. - С той разницей, что физики под каждым своим нынешним сложным понятием разумеют все-таки всегда одно и то же и нечто математически определенное, тогда как о философах этого сказать нельзя. Тот же Соловьев обвиняет часть философов в том, что они второе абсолютное смешивают и отождествляют с спервым (213). Я впрочем и не думал насмехаться. Этому языку надо научиться, и это не труднее, чем, вероятно, научиться турецкому языку. Жалею правда, что русские философы взяли свой язык у немцев, а не у французов или англосаксов. Если я не понимаю некоторых доктрин Соловьева, то это моя вина, а не его... Быть может, Соловьеву в литературе все же иногда нехватало простоты и чувства смешного (в жизни у него этого чувства, говорят, было очень много). Прочтите его "Мнимую критику", - сердитую полемику с Чичериным, в которой оба они совершенно серьезно сравнивали друг друга с Торквемадой! Тема была очень серьезна - и в частности по вопросу о смертной казни, Соловьев, ее решительный враг, был неизмеримо выше своего оппонента. Но одновременно они спорили и об отправлениях животного организма. Человек, - писал Чичерин, - "не стыдится наполнения себя материей, но он стыдится освобождения от излишней материи. Что же, это освобождение от ненужной пищи есть тоже недолжное?". Соловьев, правда, указывая на "невысокий сорт" довода, отвечает, что вопрос основан на двусмысленности слова "должное" в русском языке: "По-немецки два смысла здесь различаются в словах "Mssen" и "Sollen". Впрочем, я охотно готов удовлетворить любопытство г. Чичерина. Указанный им физиологический факт есть лишь частичное и, так сказать, хроническое проявление той аномалии, острое обнаружение которой дано в смерти и тлении организма. В обоих случаях аномалия состоит в перевесе материи над формой" (214), и т. д. Мне право трудно представить себе такую полемику, с "формой и материей", с "Mussen" и "Sollen", во французской или английской философской литературе... Не будем входить в обсуждение общего учения Соловьева. Нового о нем ничего не скажешь, - все сказано и пересказано, - да это и не относилось бы к теме нашего разговора. Чтобы остаться в ее пределах, скажу одно: в известных мне его произведениях нет ни одной строчки, противоречащей идее "красоты-добра". В своих возражениях Ницше он, по-моему, без основания сопоставил и даже объединил с "красотой" "силу" (следуя тут, правда, ницшеанской фразеологии). Но что же сказал Соловьев по существу? Он начал с древней цитаты: "И бысть егда поражаше Александр Македонский, сын Филиппа, иже изыде от земли Хеттии, порази и Дария, царя персидского и мидского, и воцарися вместо его первый в Елладе. И состави брани мнози, и одержа твердыни мнози, и уби царя земския. И пройде даже до краев земли и взя корысти многих языков, и умолча земля перед ним, и возвысися, и вознесеся сердце его. И собра силу крепко зело, и начальствова над странами и языки, и мучительми, и быша ему в данники. И посем паде на ложе и позна яко умирает". Последние слова, подчеркнутые самим Соловьевым, очень сильные в своей сжатости, он затем подробно развивает, от чего они лучше не становятся: с теми стилистами состязаться трудно. Его аргументация тут не так интересна: "Разве сила, бессильная перед смертью, есть в самом деле сила? Разве разлагающийся труп есть красота? (215) и т. д. Посрамлять ницшеанство ждущей всех людей смертью было довольно бесполезно, тем более, что этот довод-туз бьет все карты во всех колодах. Посрамлять самого Ницше его собственным безумием (216) было вдобавок и не очень великодушно. Но каков же тут вывод самого Соловьева? "Сила и красота божественны, только не сами по себе: есть Божество сильное и прекрасное, которого сила не ослабевает и красота не умирает, потому что у него и сила, и красота нераздельны с добром". Выпустим "силу", при чем она тут и что в ней "божественного"? Русская литература никогда особенно силу и не любила. В ней нет Конрадов и Джеков Лондонов, мало и "людей действия", - разве "босяки" Горького? Классические русские писатели обычно вливали в жилы "людям силы и действия" иностранную кровь. Тургенев выбрал болгарина Инсарова, Гончаров немца Штольца, Чехов немца или шведа фон Корена, Лесков швейцарца Рейнера и поляка Ярошинского. Базаров исключение, да его действие волей судьбы и не началось... Главное же в мысли Соловьева никак Платоновскому принципу не противоречит. Да и в "Критике отвлеченных начал" он "реализацию божественного начала" определяет как задачу искусства, "свободной теургии" (217). Нет у Соловьева также почти ничего носящего печать бескрайностей. Говорю "почти" потому, что при известном желании можно было бы признать "безмерной" его мысль: Бог хочет, чтобы существовал хаос. Эту мысль он высказал в одной из второстепенных своих работ. Ни в "Оправдании Добра", ни в "Критике отвлеченных начал" этой мысли нет. И только намеки на нее есть в "Повести об Антихристе", которая, как и "Три разговора" вообще, представляется мне одним из слабейших произведений Соловьева... Предполагаю, что вы не берете его в укрепление вашей позиции в споре?