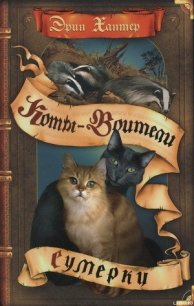Воображаемые сообщества - Андерсон Бенедикт (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Это различие многим обязано переписи и карте. Глухое местоположение Новой Гвинеи и труднопроходимость местности создали здесь за много тысяч лет необычайную языковую фрагментацию. Когда в 1963 г. голландцы уходили из этого региона, у здешнего населения, составлявшего 700 тыс. человек, существовало, по их приблизительным оценкам, более 200 по большей части взаимно непонятных языков[411]. Многие «племенные» группы, проживавшие в самых глухих районах, даже не знали о существовании друг друга. Между тем, голландские миссионеры и чиновники, особенно после 1950 г., впервые всерьез попытались «объединить» их посредством проведения переписей населения, расширения коммуникационных сетей, создания школ и возведения надплеменных» правительственных структур. И эта попытка была предпринята колониальным государством, которое, как мы уже заметили, было уникальным в том отношении, что управляло индийскими территориями, используя главным образом не европейский язык, а «административный малайский»[412]. А следовательно, Западная Новая Гвинея была «воспитана» в том же языке, в котором ранее была выпестована Индонезия (и который естественным образом стал ее национальным языком). Ирония в том, что bahasa Indonesia стал, тем самым, «лингва франка» развивающегося западно-новогвинейского, западно-папуасского национализма[413].
Однако именно карта собрала воедино часто ссорившихся друг с другом молодых западно-папуасских националистов, особенно после 1963 г. Хотя индонезийское государство и изменило название этого региона, превратив West Nieuw Guinea сначала в Irian Barat (Западный Ириан), а затем в Irian Jaya, оно прочитало его локальную реальность в атласе колониальной эпохи, отражавшем взгляд с высоты птичьего полета. Небольшая горстка антропологов, миссионеров и местных чиновников еще могла знать и мыслить о ндани, асматах и бауди. Но государство, а через него и индонезийское население в целом видели только фантомных «ирианцев» (orang Irian), именуемых в соответствии с картой. А поскольку это был фантом, то и представляться он должен был в квази-логотипной форме: «негроидные» черты, пенисы в чехлах и т. п. Примерно так же, как в начале XX в. в рамках расистских структур Нидерландской Ост-Индии впервые была воображена Индонезия, зародилось «ирианское» национальное сообщество, ограниченное 141-м меридианом и соседними провинциями Северных и Южных Молуккских островов. Когда в 1984 г. по приказу государства был злодейски убит его наиболее выдающийся и привлекательный представитель Арнольд Ап, он работал хранителем государственного музея, посвященного «ирианской» (провинциальной) культуре.
Музей
Связь между занятием Апа и его убийством вовсе не случайна. Ведь музеи и музейное воображение в глубине своей политичны. То, что его музей был основан далекой Джакартой, показывает нам, что новое национальное государство, Индонезия, училось у своей непосредственной предшественницы — колониальной Нидерландской Ост-Индии. За нынешним ростом числа музеев по всей Юго-Восточной Азии угадывается некоторый общий процесс политического наследования. И чтобы понять этот процесс, нам необходимо рассмотреть новую колониальную археологию XIX в., сделавшую такие музеи возможными.
До начала XIX в. колониальные правители в Юго-Восточной Азии проявляли мало интереса к древним памятникам цивилизаций, которые они себе подчинили. Томас Стэмфорд Раффлз, грозный эмиссар из Калькутты времен Уильяма Джонса, был первым видным колониальным чиновником, который не только собрал огромную личную коллекцию местных objets d'art[414], но и стал систематически изучать их историю[415]. С этих пор величественные красоты Боробудура, Ангкора, Пагана и иных древних достопримечательностей стали все чаще извлекать на свет, очищать от диких зарослей, измерять, фотографировать, реконструировать, огораживать, анализировать и выставлять напоказ[416]. Колониальные археологические службы стали влиятельными и престижными институтами; на работу в них привлекали исключительно талантливых ученых-чиновников[417].
Доскональное исследование того, почему и когда это произошло, увело бы нас слишком далеко от нашей темы. Здесь, вероятно, достаточно будет предположить, что это изменение было как-то связано с упадком торгово-колониальных режимов двух великих Ост-Индских компаний и становлением подлинно современной колонии, напрямую присоединенной к метрополии[418]. Соответственно, престиж колониального государства был теперь тесно связан с престижем его заморского господина. Достойно внимания, сколь интенсивно сосредоточились археологические усилия на восстановлении впечатляющих памятников (и как эти памятники стали наноситься на карты, предназначенные для массового тиражирования и наставления: это была своего рода некрологическая перепись). В этом акценте, несомненно, нашла отражение и всеобщая мода на все восточное. Однако огромные средства, вкладываемые в это дело, позволяют заподозрить, что у государства были на то свои собственные причины, не имевшие отношения к науке. На ум приходят целых три таких причины, из которых последняя, безусловно, самая важная.
Во-первых, археологический бум совпал по времени с началом политической борьбы вокруг стратегии государства в сфере образования[419]. «Поборники прогресса» — как колонисты, так и коренные жители — требовали крупных вложений в современное школьное образование. Против них выступили стройными рядами консерваторы, которые боялись долгосрочных последствий такого образования и предпочитали, чтобы аборигены оставались аборигенами. В этом свете, археологические реставрации, за которыми вскоре последовало поддерживаемое государством издание традиционных литературных текстов, можно рассматривать как своего рода консервативную образовательную программу, которая служила также и предлогом для сопротивления давлению со стороны прогрессистов. Во-вторых, официальная идеологическая программа реконструкций всегда выстраивала строителей памятников и колониальных туземцев в некоторого рода иерархию. В ряде случаев, как, например, до 30-х годов нашего века в Голландской Ост-Индии, муссировалась идея, что строители на самом деле не принадлежали к той «расе», к которой принадлежат местные жители (и что ими были «в действительности» выходцы из Индии)[420]. В других случаях, как, например, в Бирме, воображение рисовало образ векового упадка, из-за которого нынешнее коренное население уже неспособно к великим деяниям своих предполагаемых предков. Представленные в этом свете, реконструируемые памятники, противостоя окружающей сельской нищете, как будто говорили коренным жителям: само наше присутствие показывает, что вы всегда были (или давно уже стали) неспособными ни к величию, ни к самоуправлению.
Третья причина интересует нас больше, и она теснее связана с картой. Ранее, обсуждая «историческую карту», мы уже увидели, что колониальные режимы начали связывать себя в такой же мере с древностью, как и с завоеванием, руководствуясь первоначально беззастенчиво макиавеллианскими мотивами своей легализации. Однако со временем откровенно грубых речей о праве завоевывать становилось все меньше и меньше, и все больше усилий направлялось на создание альтернативных легитимностей. Множилось число европейцев, родившихся в Юго-Восточной Азии и склонных считать ее своей родиной. Монументальная археология, все больше связываясь с туризмом, позволяла государству предстать в роли защитника обобщенной, но в то же время местной Традиции. Старые священные места должны были быть инкорпорированы в карту колонии, а их древний престиж (который в случае его исчезновения, как часто и обстояло дело, государство было призвано возродить) на картографов. Эту парадоксальную ситуацию прекрасно иллюстрирует тот факт, что восстановленные памятники часто были окружены изящно выложенными газонами и тут и там неизменно были расставлены полные всевозможных дат пояснительные таблички. Более того, памятники эти следовало держать безлюдными; попасть в них могли только проезжие туристы (и, по мере возможности, там не должно было быть никаких религиозных церемоний или паломничеств). Превращенные таким образом в музеи, они вернулись к жизни в новом качестве — как регалии светского колониального государства.