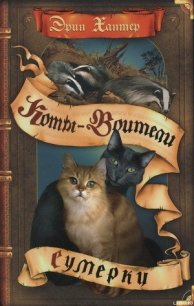Воображаемые сообщества - Андерсон Бенедикт (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Как и переписи, карты европейского стиля базировались на тотализирующей классификации и подталкивали их бюрократических производителей и потребителей к проведению политики, имевшей революционные последствия. С тех пор, как в 1761 г. Джон Харрисон изобрел хронометр, давший возможность точно рассчитывать долготу, вся искривленная поверхность планеты была упрятана в геометрическую координатную сетку, расчертившую неведомые моря и неосвоенные регионы на измеримые квадратные ячейки[403]. Задача, так сказать, «заполнения» этих ячеек ложилась на путешественников, топографов и вооруженные силы. В Юго-Восточной Азии вторая половина XIX в. была золотым веком военных топографов: сначала колониальных, а чуть позже тайских. Они победоносно подчиняли пространство такому же учету, какому производители переписей пытались подчинить людей. Триангуляция за триангуляцией, война за войной, договор за договором — так протекало соединение карты и власти. Тут будет уместно привести слова Тхонгчая:
«С точки зрения большинства теорий коммуникации и здравого смысла, карта есть научная абстракция реальности. Карта лишь репрезентирует нечто, уже объективно «вот здесь» существующее. В истории, описанной мною, эта связь встала с ног на голову. Именно карта предвосхитила пространственную реальность, а не наоборот. Иными словами, карта была не моделью той реальности, которую она намеревалась представить, а образцом для сотворения самой этой реальности... Она стала настоящим инструментом конкретизации проекций на земную поверхность. Теперь карта была необходима новым административным механизмам и войскам для подкрепления их притязаний... Дискурс картографирования был той парадигмой, в рамках которой осуществлялись административные и военные действия и которую эти действия фактически обслуживали»[404].
К концу столетия, с осуществлением реформ принца Дамронга в министерстве внутренних территорий (замечательное название, с точки зрения картографии!), административное управление королевством было наконец целиком поставлено по примеру соседних колоний на территориально-картографическую основу.
Было бы недальновидно обойти вниманием решающую точку пересечения карты и переписи. Новая карта надежно выполняла задачу разграничения бесконечных рядов «хакка», «нетамильских шриланкийцев» и «яванцев», вымышленных формальным аппаратом переписи, устанавливая территориальные пределы этих рядов там, где, с политической точки зрения, они заканчивались. В свою очередь, перепись посредством своего рода «демографической триангуляции» наполняла формальную топографию карты политическим содержанием.
В ходе этих изменений сформировались две конечные аватары карты (обе были институционализированы позднеколониальным государством), которые являются прямым прообразом официальных национализмов Юго-Восточной Азии XX в. Полностью сознавая свою чужеродность в далеких тропиках, но попадая туда из цивилизации, где уже давно были узаконены наследование географического пространства и передача его от одного хозяина к другому[405], европейцы часто пытались легитимировать распространение своей власти квази-законными ме-тодами. В число самых популярных среди них входило «наследование» мнимых суверенных прав туземных правителей, которых европейцы уничтожали или подчиняли своей власти. В любом случае узурпаторы, особенно оказываясь vis-a-vis с другими европейцами, вовлекались в реконструкцию истории собственности своих новых владений. Отсюда появление, особенно под конец XIX в., «исторических карт», призванных демонстрировать в новом картографическом дискурсе древность особых, плотно упакованных территориальных единиц. Через хронологически упорядоченные последовательности таких карт выстраивался своего рода политико-биографический нарратив династического государства, иногда обладающий бездонной исторической глубиной[406]. В свою очередь, этот нарратив заимствовали, пусть часто и в адаптированном виде, национальные государства, ставшие в XX в. правопреемниками колониальных государств[407].
Второй аватарой была карта-как-логотип. Источник у нее был вполне невинный: привычка имперских государств окрашивать свои колонии на карте в имперский цвет. На имперских картах Лондона для британских колоний обычно использовались розовый и красный цвета, для французских — фиолетовый и синий, для голландских — желтый и коричневый и т. д. Окрашенная таким образом, каждая колония представала как отдельный кусочек составной картинки-загадки. Когда эффект «картинки-загадки» вошел в норму, каждый такой «кусочек» мог быть полностью отделен от своего географического контекста. В конечной его форме могли быть скопом удалены все объяснительные глоссы: линии долготы и широты, названия мест, условные знаки, обозначающие реки, моря и горы, и, наконец, соседи. Чистый знак, уже не путеводитель по миру. В этой своей форме карта вошла в бесконечно воспроизводимые серии, став пригодной для переноса на плакаты, официальные печати, фирменные бланки, обложки журналов и учебников, скатерти и стены отелей. Мгновенно узнаваемый и повсюду замечаемый, логотип карты глубоко внедрялся в массовое воображение, формируя выразительный символ для зарождающихся антиколониальных национализмов[408].
Современная Индонезия дает нам яркий и болезненный пример этого процесса. В 1828 г. на остров Новая Гвинея высадилась первая партия одержимых лихорадочной активностью голландских поселенцев. Хотя в 1836 г. им пришлось покинуть основанное ими поселение, голландская корона объявила суверенитет над частью острова, лежавшей к западу от 141-й долготы (невидимой линии, которая не соответствовала ничему на земной поверхности, но втискивала в ячейки все более сокращающиеся неокрашенные Конрадовы пространства), за исключением некоторых прибрежных территорий, над которыми признавался суверенитет султана Тидоре. Лишь в 1901 г. Гаага выкупила у султана Западную Новую Гвинею и включила ее в Нидерландскую Индию — как раз вовремя для логотипизации. Большие части этого региона оставались незакрашенными до окончания второй мировой войны; горстку голландцев, которые там жили, составляли в основном миссионеры, разведчики недр и надзиратели специальных тюремных лагерей для непокорных радикальных индонезийских националистов. Болота к северу от Мерауке, что на юго-восточной оконечности голландской Новой Гвинеи, были выбраны в качестве местоположения этих учреждений именно потому, что этот район был наиболее удален от остальной колонии, а местное население «каменного века» было абсолютно не запятнано националистическим мышлением[409].
Интернирование, а часто и погребение здесь мучеников-националистов позволили Западной Новой Гвинее занять центральное место в фольклоре антиколониальной борьбы и сделали ее священным местом в национальном воображении: Свободу Индонезии от Сабанга (на северо-западной оконечности Суматры) до — чего бы вы думали? — ну, конечно же, — Мерауке! И не имело никакого значения, что никто из националистов, за исключением нескольких сотен интернированных, до шестидесятых годов ни разу в жизни не видел Новую Гвинею собственными глазами. Между тем, голландские колониальные карты-логотипы, быстро разлетаясь по всей колонии и показывая Западную Новую Гвинею так, как будто к востоку от нее ничего не было, безотчетно все больше укрепляли воображенные узы. Когда отгремели ожесточенные антиколониальные войны 1945—1949 гг. и голландцы были вынуждены передать суверенитет над архипелагом Соединенным Штатам Индонезии, они попытались (по причинам, которые не должны нас здесь отвлекать) отделить Западную Новую Гвинею еще раз, временно удержать ее под своим колониальным управлением и подготовить к принятию независимой национальной государственности. Эти попытки прекратились лишь в 1963 г., вследствие мощного дипломатического давления американцев и индонезийских военных операций. Только тогда президент Сукарно в возрасте 62 лет впервые посетил регион, о котором неустанно ораторствовал на протяжении четырех десятилетий. Последующие неровные отношения между населением Западной Новой Гвинеи и эмиссарами независимого индонезийского государства можно отнести на счет того, что индонезийцы более или менее искренне считают это население «братьями и сестрами», тогда как само это население по большей части придерживается совершенно иного взгляда на вещи[410].