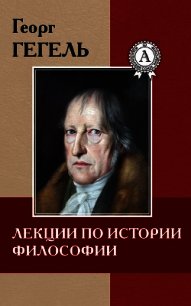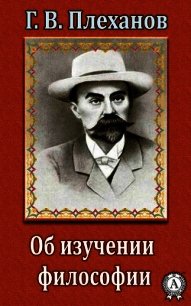Язык философии - Бибихин Владимир Вениаминович (книги онлайн txt) 📗
Сократ шутит, располагает к себе, приобадривает, учит не иметь страха перед смертью. Ведь род всё равно неостановимо делает свое дело. Он хочет родиться и так или иначе родится, и Сократ ради успеха этих единственно важных родов выпьет цикуту и погибнет, если иначе помочь родам уже нельзя. Тут его призвание, единственное на земле и спасающее человеческую историю. Ведь род и неузнанный не перестанет быть. Вынашивание отменить или остановить нельзя; только сорвать или помочь.
Так было в годы Сократа и Платона, так было всегда и так есть сейчас. Рожают не праздные граждане рабовладельческого полиса, рожаем мы, большей частью того не зная; и, как тогда, нам хочет служить Сократ. И опять, как тогда, рожать страшно. Хочется забыться и думать, что пронесет, как‑нибудь обойдется, и остерегаться всякого зачатия — заражения мыслью, которой человек не может сам распорядиться. Мы в панике от нашего положения и делаем странные вещи от страха. Наш главный страх перед родами. Сейчас, как тогда и всегда, всё зависит от того, как мы родим идеи, только времени осталось меньше.
Человек в положении. Он попал в историю, он чреват родами. Он призван рожать не потому, что это культурно или нужно для прогресса или философично или филологично, а потому, что иначе он не только не осуществится, а хуже, родит уродство или еще хуже, родит смерть. Высший род, предшествующий всему и подлежащий рождению прежде всего, у Сократа и Платона идея блага. Выше всех частных порождений — роды добра как такового, дающего всему быть тем, что оно есть. От добра, высшего рода, ждет себе смысла всякое другое рождение, вплоть до простого живого воспроизведения. Без высшего рода, блага, никакое рождение, биологическое или художественное, еще не благо само по себе. Всякому новорожденному еще долгий путь к добру мимо зла, которому способно служить всё чисто техническое. В платоновских родах вовсе не всякое творчество хорошо. Или безусловное благо — или не нужно ничего. Поэтому Сократу так важно, что у него нет никакого искусства слова и не в филологическом мастерстве дело. Всякое порождение еще двусмысленно, кроме того, ради которого и от которого всё: рождение идеи идей, идеи блага. Философия выше ремесла, мастерства и художества не тем, что ремесло работает руками и для свободного это постыдно, а тем, что порождения науки и техники пока еще двусмысленны. Философия намерена держаться не целей, а цели целей, не порождения новых индивидов, а возвращения к роду. Рядом со вторым философским рождением науки и искусства не очень хорошо знают, зачем они. Цели всего, кроме философии, двусмысленны. Своей задачей — пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, — философия обязывает себя к предельному усилию, исключающему неопределенность.
Для взгляда со стороны, наоборот, философия именно поэтому туманна. Она будет тонуть для нас в тумане, пока мы не потонем в ней. И после того, как мы имели проблеск понимания, чт она самом деле значит сократовская маевтика, споры вокруг Сократа не только не угаснут, а наоборот, еще разгорятся. Кем он был — акушером при чреватом предродовом человечестве, чтобы оно не родило мертвого или злого урода, или хитроумным филологом?
16. Философия и религия.
Платон дошел до нас и косвенно, через школу и университет, и прямо, через христианство, которое, становясь в первые века нашей эры главным учением крещеных государств, вобрало в себя платоническую (неоплатоническую) философию, хотя современная религиозная философия уже плохо помнит или даже совсем не знает, до какой степени она платонизм.
Аскеза, сдержанность, благочестие в нехристианском платонизме были не менее строгими чем в христианской мысли. Вообще аскеза настолько привычна для мысли, что надо удивляться тем, в сущности, недолгим периодам, когда мысль позволила себе быть празднично открытой. Так было в античной классике у Сократа, Платона, Аристотеля. Почти сразу после них в скепсисе, стое, в платоновской Академии дисциплина начинает преобладать над размахом. Не то что у Платона и Аристотеля было мало дисциплины, но преобладала широта искания. Теперь упрочивается философская догматика (не догматизм). Скептицизм, воинствовавший против «догматиков», был по–своему не менее догматичным.
Смирение, аскеза, дисциплина, догматика утверждаются в философии как ее самый слышный тон. Теперь нужно было ждать долго, до европейских Ренессансов, до Нового времени, до современности, по сути дела, до XX в., пока возвратится праздничная свобода философского вопроса.
Догматизм платоников (неоплатоников), их неспособность философствовать иначе как держась непреложных истин, защищая их и опровергая противников, не имеет отношения к проблеме предпосылочности или беспредпосылочности в философии. Эта современная проблема вызвана тем, что одни философы принимают теоретические или прагматические основоположения, другие нет. Для платоников вопрос «принять или не принять какие‑то основоположения» не сто ит. Они с порога отвергают право на такой выбор. Иметь то, что подлежит почитанию, или не иметь, решает не человек. Сама мысль включает благочестие, иначе она теряет связь с божественным умом. Безусловно необходимо почитание первого начала. Именно для того, чтобы не быть ничем, кроме чистой мысли, философия становится служением тому, что выше нее.
В «Строматах» (VI 23) Климента Александрийского известная формула Парменида о тожестве бытия и мышления стоит в таком контексте: «Аристофан сказал: мышление равнозначно действию, а до него элеат Парменид — одно и то же, мыслить и быть». Плотин (V 1, 8) понятным для платоника образом считает здесь главным авторитетом Платона, а Парменида одним из предшественников: «Раньше [т. е. прежде Платона] и Парменид держался такого мнения», т. е. что на вершине всего Благо, от которого «всему познаваемому» дается одновременно и эта его познаваемость, и существование (бытие). Плотин здесь имеет в виду «Государство» VI 509 b: «[…] но также и бытие, т. е. сущность (существование), придается им (вещам) от него (блага)». Поскольку, выводит Плотин, бытие возникает от первого Блага одновременно с познаваемостью, то, следовательно, мышление тождественно бытию. «И Парменид держался такого мнения, поскольку сводил в одно бытие и ум и полагал бытие не в числе ощущаемых вещей, говоря: одно и то же — мыслить и быть. Он называет его (бытие) неподвижным, — хотя и ставя рядом с ним мысль, — изымая из него всякое телесное движение».
Я привел это место из Плотина в пунктуации его издателей Генри и Швицера, получающих тот смысл, что, хотя Парменид отождествляет бытие с мыслью, однако он тем не менее отказывает бытию в движении. Неудобство этого прочтения в том, что о неподвижности бытия оказывается сказано дважды. У Дильса–Кранца (Парменид В 3) пунктуация другая, позволяющая читать не только так, но и иначе: Парменид называет это (бытие–мысль) неподвижным, т. е. хотя присоединяет к бытию, делает одним целым с бытием мысль, но устраняет из нее (мысли) всякое телесное движение (точно так же, как и из бытия). Второе прочтение, конечно, не обязательно. Важнее знать, возможно ли, чтобы Плотин обращал внимание на «неподвижность» мысли у Парменида и присоединялся здесь к нему? Исключает ли он из мысли — чистой мысли — «телесное» движение, т. е. ощущение, воображение, восприятие?
Другие места из Плотина говорят, что да. Например, «Эннеады» 14, 10, где Плотин говорит о том, что мы назвали бы сознанием. Это одно из тех нередких и ясных мест в классической философии, которые должны были бы заставить нас стыдиться нашей возни с сознанием. В Новое время сознание силится захватывать всё новые командные позиции, наблюдательные пункты учета и контроля. Данных для занятия командных позиций у сознания на удивление мало. Засилие сознания можно было бы назвать непомерным разрастанием лестничного остроумия, когда мысли приходят после события. Когда всё уже случилось, когда уже поздно и не нужно, когда история укатила дальше свое неостановимое колесо, тогда на опустевшую сцену вступает сознание и начинает с грехом пополам, не осознавая своего шутовства, «отражать» случившееся словно нарочно для того, чтобы история могла тем временем без свидетелей, всё внимание которых отвлечено на запоздалый спектакль сознания, разыграться на новой сцене. Сознание хромает за историей и не может ее догнать. Для компенсации своего промаха оно непомерно раздувается, вплоть до намеков на то, что оно и есть свет эпохи, что чуть ли не оно и составляет то подлинное бытие, которое отождествлял с мыслью Парменид. «Я сознаю, следовательно, существую» замахивается на то, чтобы объявить себя повторением парменидовского «одно и то же — мыслить и быть».