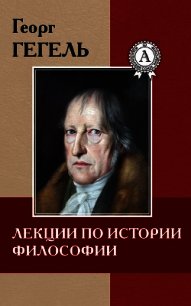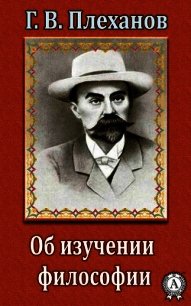Язык философии - Бибихин Владимир Вениаминович (книги онлайн txt) 📗
Но решить, действительно ли мы в XX в. имели уникальный, головокружительный шанс быть современниками мыслителя, призванного на тысячелетия вперед, если будет жить человечество, разметить путь мысли и религий, счастливцы, которым выпало на долю такое, что дарится людям далеко не каждого века, или же, наоборот, мы несчастные современники шарлатана, воссевшего на философский престол, — решить это мы обязаны, иначе мы не имеем отношения к философии, как не имели к ней отношения люди, воздержавшиеся от голосования при вынесении приговора Сократу.
Еще одна, почти комическая сторона фатальной нерешенности того, какое место мы занимаем в философии, вот какая: мы, оказывается, не знаем, имеем ли мы дело с действительно существенными сочинениями Платона или с его побочными, игровыми, популяризаторскими, где философ водит нас за нос, потому что его эсотерическое учение передавалось только устно и до нас не дошло, а дошло лишь эксотерическое, где он нас развлекает и не столько говорит, сколько ураивает. Что такое платоновские диалоги — работа мысли или словесные забавы? Мы опять не знаем.
Этот скандал, всерьез задевающий, смягчается для нас может быть тем, что эллины были давно и их философия дело древности, а кроме того, они были язычники и соответственно могут без вреда быть списаны со счета нашей культуры, озаренной светом христианства. Мы, конечно, их не списываем, потому что заботимся и о культуре и о традиции. Каждый человек должен приобретать знания. Надо обогатить свою историческую память. Хотя, конечно, мы знаем, что единое на потребу. Блаженны нищие духом. Античность для нас всё‑таки пышное излишество. Праздные люди забавлялись на свободе и просторе. «Демоны эллинов прельстили». Иногда что‑то вроде подозрения, что дело обстояло не совсем так, нас посещает. Но наш общий взгляд на античность (древность) всё‑таки уже прочно установился. Древняя философия для нас памятники культуры. Культура это масса ценных вещей. В музее смертельно скучно. Мы заставляем себя: надо всё же приобщиться. Нехорошо не знать всего.
Окутанный дымкой давности, Платон проглатывается вместе с его нерешаемой двойственностью, как если бы теперь было уже не очень важно, пропали его серьезные сочинения или нет. Современный историк философии занимает примирительную позицию. С одной стороны, сократовские диалоги — это уроки философии, с другой — словесные игры. «Сократ […] заслуживает прозвания […] филолога (любослова) […] за внимательное отношение к смыслу слова и к его морфологической структуре […] за слабость его к словесным забавам, этимологическим опытам и двусмысленным шуткам» [33]. Лукавый мудрец, тонкий филолог, хитрец, забавник — разве не любопытная фигура, разве не заслуживает внимания культурного человека, как впрочем и многое другое. Давайте же, приглашают нас, почитаем сократовские диалоги; правда же, это и занимательно и поучительно.
Читаем мы однако вот что. Как начинается «Апология Сократа», его защитная речь перед часом, когда его приговорят к смерти или оправдают? Хотя конечно нам никто не запретит и этот сюжет тоже считать завлекающим приемом, риторикой или филологической забавой. Самая бесстыдная ложь обвинителей, говорит Сократ, будто я искусный ритор, δεινὸς λέγειν, ῥήτωρ, мастер слова (17 b). Это злейшая клевета на меня. Мое дело говорить истину εἰκῇ (17 c).Εἰκῇ означает как придется, как попало; как Бог на душу положит, сказали бы мы. Дальше у Сократа: ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασι, какими случится именами, какими подвернутся словами.
Любопытствующий слушает и говори про себя: ну и лукавишь ты; мы‑то знаем, видели, и нам объяснили, какой ты мастер слова, какой ритор, как любишь и умеешь позабавиться словом. Помним, помним: уверять, что неумел в речах — известный риторический прием.
Нет, Сократ продолжает: «Да и недостойно, люди, в моем возрасте, словно подростку, лепя слова […]» «С сочиненной речью» здесь не совсем точный перевод. Πλάττειν λόγους, буквально «вылепливать речи», значит выдумывать, вымышлять, в техническом словаре риторов — причесывать, украшать.
Ну, допустим, старик Сократ, пожалуй, действительно уже не будет забавляться словами, уступаем мы. Тем более под угрозой смертного приговора. Но ведь как забавлялся, как играл. Признайся, ведь ты всё‑таки софист, ритор. Никуда не денешься. Ведь красиво говорил, с удивительным искусством слова?
Словно слыша нас, Сократ кричит: никогда, ни раньше, ни теперь мое дело не имело ничего общего с искусством построения речей. Это ложь, тянущаяся за мной издавна, будто я «умею слабые словесные доводы сделать сильными» (18 b). Только трудно мне заставить вас в это поверить, потому что с детства в вас въелось другое убеждение, будто всё сводится к умению представить дело. Его, конечно, всегда можно представить по–разному, повернуть так и по–другому; можно вот и сейчас доводы обвинителей представить в другом свете. Но я не имею и никогда не имел к такому занятию отношения, я о другом: мое дело просто говорить истину.
Поговори еще, улыбаемся мы. Каждый себя оправдывает, и вот ты придумал всем оправданиям оправдание: ты один из всех, видите ли, говоришь истину. Говори лучше о деле; тебя обвиняют, оправдывайся, ты не почитал богов.
Но первый свой в жизни шанс говорить перед народом с реальным шансом уйти от обвинения Сократ расходует всё на то же. Он знал, что его изображают софистом и вроде софиста; никогда не находил, кому и как возразить; теперь вот не нашел лучше места и времени сказать: мое дело не риторика, а истина. Не надо смущаться здесь сходством с Евангелием. Большинство судивших Сократа действительно отмахнулось от него, как позднее Понтий Пилат отмахнется от Назарянина. Что есть истина?
Теперь Сократу совсем нечего сказать. В который раз он повторяет, что против клеветы, будто он искусник слова, у него нет ничего, кроме истины; истину, и даже «всю истину» (20 d) он обещает сказать, а ни на что другое не способен.
Ничего, кроме «всей истины», у тебя нет. Что за претензия? Не смешно ли среди взрослых людей уверять, что у одного тебя истина, да еще и «вся»?
Снова Сократ будто слышит нас. Он говорит удивительную вещь: «Пожалуй, я покажусь кому‑то шутящим, играющим, забавляющимся, и всё‑таки хорошо знайте, я скажу вам всю истину».
Предупреждение «не подумайте, что я шучу», означает, что Сократ знает, за кого его примут: за юмориста, παίζων. Что же это за обреченность такая! Человек стоит перед судом под угрозой смерти и всё равно говорит не по форме, не встает в позицию защиты; как раньше обращался к людям на площадях, рискуя задеть, так и продолжает; и как раньше наживал друзей и врагов, так и теперь. Только на этот раз окончательно выяснится, кого больше, любящих его или ненавидящих.
Тот же суд продолжается над Сократом и теперь. До сих пор мы гадаем, всерьез он или шутит. Снова и снова — не без уважения к самим себе за то, что мы ставим такие тонкие вопросы и располагаем соответствующим филологическим и философским инструментарием, — мы строим гипотезы: эсотерика? эксотерика? Сократ–Платон знает, что говоримое им неизбежно покажется «некоторым» — какой части? большинству? меньшинству? суд продолжается — словесной забавой. Старик просит в простоте, не умея быть убедительнее: прошу вас, поверьте, что я не шучу, что говорю одну чистую правду. Люди слышат крик идущего на смерть, который, как может, говорит лучшее, что знает. Они всё равно не могут решить, литературная ли это игра, не только игра или совсем не игра. Скорее всего, поучительное литературное упражнение. Маевтика. Известно, что Сократ занимался маевтикой.
А вот это уже, собственно, по–настоящему смешно. Старик Сократ повивальная бабка, помогает при родах. Кстати, эта профессия требует шутки. Повивальная бабка не хирург, почти всё делается не ею, а роженицей, которой и страшно, и не должно быть страшно, так что повивальное искусство требует и приободрить, и посмеяться, и прикрикнуть если что, и похвалить, и поздравить; требует во всяком случае добродушия и благожелательности, не мрачной серьезности. Так что не шутить старик Сократ, повивальная бабка, вроде бы и не может. А потом — роды‑то он принимает не у женщин, а у мужчин. Что за соблазн. Рожают молодые люди и бородатые мужи. Сократ им помогает разродиться. Чем? Прекрасной мыслью, идеей. Не скрыт ли здесь намек? Не нарушены ли правила приличия? В большинстве — подавляющем — стран мира и почти во все века за одни такие аллюзии Сократа посадили бы, если не хуже. Он жил в свободных Афинах, где ему всё сходило с рук до поры. Современный просвещенный и нравственный исследователь с гадливостью отзывается о нравах Афин. Тем самым он даже и не воздержался от голосования, а по справедливости считает нужным остановить Сократа в его эротике. Острота ситуации снова смягчается давностью лет. От сократовского акушерства остались только платоновские сократические диалоги. Мы их читаем, потому что изучаем историю философии. Кто‑то когда‑то хотел разродиться и шел к Сократу. Платон записал их разговоры. Что они такое? Учебник акушерства? Даже сказать так странно. Будем ли мы в 20 в. пользоваться ими для того, чтобы чем‑то разродиться?