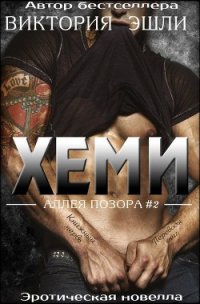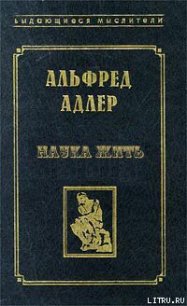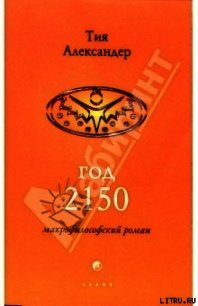О смысле жизни - Иванов-Разумник Р. в. (читаем книги онлайн без регистрации .txt) 📗
X
Позволю себѣ небольшое отклоненіе въ сторону, чтобы связать философію трагедіи съ хорошо знакомыми намъ андреевскими и сологубовскими мотивами солипсизма и одиночества; по этой боковой тропинкѣ мы, впрочемъ, скорѣе всего придемъ къ самому центру философіи трагедіи. Дѣйствительно, для Л. Шестова начало философіи трагедіи лежитъ въ одиночествѣ. Столкнувшись лицомъ къ лицу съ ужасомъ жизни, испытавъ крушеніе различныхъ нормъ и императивовъ, понявъ все безсиліе «гуманности» и «добра» осмыслить жизнь? человѣкъ «впервые въ жизни испытываетъ то страшное одиночество, изъ котораго его не въ силахъ вывести ни одно самое преданное и любящее сердце. Здесь-то и начинается философія трагедiи»,? подчеркиваетъ Л. Шестовъ (III, 87). Это на горькомъ опытѣ узналъ Нитцше (ср. II, 23, 103, 114 и III, 152, 176), испыталъ это и Толстой? вспомнимъ еще разъ его «Исповѣдь»,? пришелъ къ этому и Достоевскій, какъ ни боролся онъ съ такой «каторжной истиной». Но не надо думать, что только такимъ тита-намъ духа и мысли уготованы оцтъ и желчь одиночества и трагедіи: каждому изъ насъ жизнь подноситъ эту горькую чашу, а если мы не примемъ ея изъ рукъ жизни, то намъ приготовитъ ее смерть… У Л. Шестова есть на эту тему остроумное и мѣткое замѣчаніе: «Нитцше? говоритъ Л. Шестовъ? поставилъ когда-то такой вопросъ: можетъ ли оселъ быть трагическимъ? Онъ оставилъ его безъ отвѣта, но за него отвѣтилъ гр. Толстой въ „Смерти Ивана Ильича“» (V, 10). Это не только остроумно, это глубоко вѣрно сказано: да, Толстой геніально показалъ намъ, что «оселъ»? т.-е. всякій человѣкъ посредственности, обыденности, мѣщанства? неизбѣжно становится трагическимъ предъ лицомъ смерти.
Вспомнимъ Аміеля, этого типичнаго человѣка обыденности: что за потрясающій трагизмъ, что за безконечное одиночество!«…Даже наши самые интимные друзья не знаютъ нашихъ бесѣдъ съ Царемъ Ужаса. Есть мысли, которыхъ нельзя повѣрить другому; есть печали, которыя не раздѣляются. Нужно даже изъ великодушія скрывать ихъ. Мечтаешь одинъ, страдаешь одинъ, умираешь одинъ, одинъ занимаешь и домъ изъ шести досокъ»… Мы помнимъ, кто говоритъ эти удивительныя по силѣ чувства слова: не Нитцше, Толстой или Достоевскій, даже не Ѳ. Сологубъ, Л. Андреевъ или Л. Шестовъ,? нѣтъ, ихъ говоритъ Аміель, одинъ изъ безчисленныхъ Ивановъ Ильичей, ихъ говоритъ «оселъ», ставшій трагическимъ. Онъ взглянулъ въ глаза Елеазара-Смерти? и сталъ одинокъ; онъ сталъ одинокъ? и въ этомъ было начало его трагедіи. И пока на землѣ есть смерть, до тѣхъ поръ трагедія неуничтожима? это мы уже знаемъ; пока на землѣ есть смерть, до тѣхъ поръ одиночество не только первое, но и послѣднее слово философіи трагедіи, ибо смерть есть то «непоправимое несчастье», котораго не избѣжатъ ни геній, ни Иванъ Ильичъ. А «быть непоправимо несчастнымъ? постыдно,? слышимъ мы отъ Л. Шестова:? непоправимо несчастный человѣкъ лишается покровительства земныхъ законовъ. Всякая связь между нимъ и обществомъ порывается навсегда. И такъ какъ рано или поздно каждый человѣкъ осужденъ быть непо-правимо несчастнымъ, то, стало-быть, последнее слово философіи? одиночество…» (курс. подл.). Нужно идти къ одиночеству, къ абсолютному одиночеству,? слышимъ мы въ другой разъ отъ нашего автора:? «послѣдній законъ на землѣ? одиночество… Rêsigne-toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute!» (IV, 67, 89, 97). И одиночество снова приводить насъ такимъ образомъ къ безнадежности, внѣ которой нѣтъ философіи трагедіи.
Rêsigne-toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute,? этими словами Бодлэра начинаетъ и заканчиваетъ Л. Шестовъ свою статью о Чеховѣ, о творчествѣ изъ ничего, о философіи безнадежности. Случая нѣтъ, а значитъ жизнь осмысленна, говорилъ когда-то Л. Шестовъ въ своей книгѣ о Шекспирѣ; случай есть, а значитъ жизнь безсмысленна, говоритъ онъ теперь въ статьѣ о Чеховѣ (см. выше, стр. 80). Случай есть. Камень падаетъ и раздробляетъ голову проходящему мимо человѣку? и мы безсильны передъ этимъ случайнымъ фактомъ. Что дѣлать? «Съ совершившимся фактомъ мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а середины нѣтъ»,? говоритъ Чеховъ; ему и его героямъ остается только, по его же словамъ, «упасть на полъ, кричать и биться головой объ полъ»… Здѣсь царство безнадежности, жизнь ничѣмъ, творчество изъ ничего. Выхода нѣтъ. И человѣку остаются только вѣчныя колебанія и шатанія, неопредѣленныя блужданія, безпричинныя радости, безпричинное горе; остается трагедія, остается безнадежность. Вмѣсто всякихъ «зачѣмъ» можно только «колотиться, безъ конца колотиться головой о стѣну. Къ чему это приведеть? И приведетъ ли къ чему-нибудь? Конецъ это или начало? (? отсюда взялъ Л. Ше-стовъ заглавіе своей послѣдней книги). Можно видѣть въ этомъ залогъ новаго, нечеловѣческаго творчества, творчества изъ ничего?» (V, 14, 62, 67). На всѣ эти вопросы Л. Шестовъ, устами Чехова, отвѣчаетъ намъ? «не знаю»… Rêsigne-toi, mon coeur? и постарайся полюбить свою бѣдную, больную, нелѣпую жизнь…
Но если все это такъ, если послѣдній законъ на землѣ? одиночество и послѣднее слово философии трагедіи? безнадежность; если всѣ нормы, всѣ «а priori» и императивы потерпѣли крушеніе; если мы не можемъ, такимъ образомъ, избѣжать подполья,? то какимъ же путемъ сможемъ мы избѣгнуть принятія слѣдующаго вывода подпольнаго человѣка: «…на дѣлѣ мнѣ надо знаешь чего? Чтобъ вы провалились, вотъ чего. Мнѣ надо спокойствія. Да я за то, чтобъ меня не безпокоили, весь свѣтъ сейчасъ за копейку продамъ. Свѣту ли провалиться иль мнѣ чаю не пить? Я скажу, что свѣту провалиться, а чтобъ мнѣ чай всегда пить…» (Достоевскій, «Записки изъ подполья»). Что можетъ противопоставить философія трагедіи этимъ словамъ? Ничего. Она вполнѣ принимаетъ ихъ, она подтверждаетъ, что «весь міръ и одинъ человѣкъ столкнулись межъ собой и оказалось, что это двѣ силы равной величины»… Pereat mundus, fiam: такова въ явномъ видѣ эта «каторжная истина», съ тайнымъ ужасомъ принимавшаяся Достоевскимъ и составляющая великую «декларацію правъ», возвѣщенную Нитцше. Да погибнетъ міръ, но да буду я? вотъ основной, универсальный законъ философіи трагедіи; а потому въ абсолютномъ эгоизмѣ слѣдуетъ видѣть великое свойство человѣческой природы (III, 174–180, 235, 242 и IV, 127).
Какъ относимся мы ко всему этому? скажемъ потомъ. А теперь невольно напрашивается предположеніе, что отъ одиночества и отъ теоріи абсолютнаго эгоизма Л. Шестовъ долженъ перейти къ теоретическому эгоизму? т.-е. солипсизму. Этого вопроса Л. Ше-стовъ, въ противоположность Ѳ. Сологубу и подобно Л. Андрееву, касается только мимоходомъ и не съ достаточной ясностью. Онъ иронически замѣчаетъ, что солипсизмъ, какъ теорія, настолько нелѣпъ, что его и опровергать не стоитъ,? и ядовито прибавляетъ къ этому: «кстати, какъ извѣстно, опровергнуть его и нѣтъ никакой возможности». Повидимому Л. Шестову хотѣлось бы? на что онъ не рѣшается? провозгласить, подобно Ѳ. Сологубу: все и во всемъ Я, и только Я, и нѣтъ иного, и не было, и не будетъ; ему хотѣлось бы связать солипсизмъ съ культомъ безпочвенности (IV, І53, 157) и оправдать этимъ свою теорію абсолютнаго эгоизма. Мы знаемъ однако изъ примѣра Ѳ. Сологуба, что если солипсизмомъ и можно оправдать что бы то ни было, то во всякомъ случаѣ не жизнь, не смерть, не случай. Кстати будетъ отмѣтить здѣсь одинъ намѣренно пропущенный нами мотивъ творчества Ѳ. Сологуба, діаметрально противоположный шестовскому ужасу передъ случаемъ: это мотивъ «вѣчнаго возвращенія», давно уже извѣстный въ философіи и воскрешенный въ послѣднее время Нитцше. Л. Шестовъ стоитъ въ ужасѣ передъ фантомомъ Случая, а теорія вѣчнаго возвращенія говоритъ ему, что случай этотъ повторялся уже милліоны разъ при абсолютно-тождественной обстановкѣ и еще милліоны разъ повторится… Хорошее утѣшеніе! Оно въ милліоны разъ увеличиваетъ нелѣпость жизни, безсмыслицу каждаго отдѣльнаго случая… «Какой новый смыслъ могло дать его жизни? говоритъ Л. Шестовъ про Нитцше? обѣщаніе вѣчнаго возвращенія? Что могъ онъ почерпнуть въ убѣжденіи, что его жизнь, такая, какой она была, со всѣми ея ужасами, уже несчетное количество разъ повторялась и, затѣмъ, столь же несчетное количество разъ имѣетъ вновь повториться безъ малѣйшихъ измѣненій?» (III, 204–207). Есть отъ чего впасть въ ужасъ и отчаяніе! Это и случается съ Ѳ. Сологубомъ, когда къ нему приходитъ мысль о вѣчномъ возвращении.