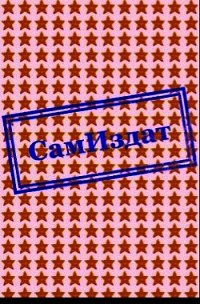Наука в свободном обществе - Фейерабенд Пол (читать книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
(3) По мнению Геллнера, я «непоследовательно соединяю» «мистику насилия» с «пацифистской позицией непротивления» и добавляю к этому «когнитивно-продуктивный паразитизм» (с. 340).
Мы видели, как появилась первая часть этой конструкции. Геллнер «соединил» отрывки, выражающие мои собственные идеи, с отрывками, выражающими точки зрения других людей. Непоследовательность заключена в его прочтении, а не в моем тексте. Вторая часть этой конструкции для меня совершенно непонятна, и я могу объяснить ее либо какими-то сциентистскими склонностями Геллнера, либо его удивительной неспособностью к чтению. На с. 301, которую цитирует Геллнер, хотя и недостаточно полно, я говорю, что у ученых могут быть интересные идеи и новинки, что нам надо прислушиваться к их идеям и использовать их новинки, но не позволять им строить общество в соответствии с их представлениями, например, не позволять им руководить образованием: наука должна быть отделена от государства точно так же, как теперь отделена от государства Церковь. Причина проста: каждая профессия имеет свою идеологию и претензии на власть, далеко превосходящие ее реальные достижения, и задача демократического общества состоит в том, чтобы держать под контролем эти идеологии и их претензии. Наука в этом отношении не отличается от других институтов, о чем свидетельствует позиция официальной медицины по отношению к необычным идеям, следующим своим собственным путем (заметим, что сравнительная эффективность методов официальной и нетрадиционной медицины никогда не проверялась в прошлом, а исследования, проведенные в наши дни, вскрыли серьезные недостатки научной медицины). Называть это «когнитивным паразитизмом» столь же нелепо, как называть паразитами всех тех астрономов, которые черпали сведения из древних записей, но не принимали теологии, игравшей существенную роль в их интерпретации. Что же касается «продуктивной» стороны этого паразитизма, то я вынужден лишь повторить, что ученые, конечно, жаждут обильного вознаграждения за свою деятельность [199]. Это вознаграждение гарантируется налогоплательщиком, который финансирует научные исследования, но совершенно не уверен в том, что его нужды будут приняты во внимание [200].
Соорудив свой вариант моих воззрений, Геллнер начинает искать их корни. Как же он действует? Он слышал о том, что я работаю в Беркли и что несколько лет тому назад некоторые люди в Беркли выступали за мир и за это подверглись насилию. «Сложив два и два», он называет «мои идеи о насилии» (которые, как мы видели, я описываю и отвергаю) «калифорнийскими», что едва ли понравится Рональду Рейгану и его многочисленным сторонникам из Лос-Анжелеса и всего штата. Далее Геллнер вспоминает, что я родился в Вене, и у него возникает идея, заимствованная, несомненно, из некоторых американских кинофильмов, что жители Вены склонны к легкомысленной жизни. Складывая опять-таки «два и два», он называет некоторые мои идеи «типично венскими» (с. 332), что столь же нелепо, как называть догматизм Поппера «папской самоуверенностью» на том основании, что Поппер из Вены, а Вена — целиком католический город. Иногда впадаешь в сомнение: говорит ли все это Геллнер всерьез или это риторические приемы, прикрывающие бессилие разума. Конечно, ритор должен был бы знать, что хулительная речь достигает успеха только тогда, когда ее главные элементы опираются на факты и не вызывают отвращения у читателя. Поэтому все зависит от того, для кого пишет Геллнер свою рецензию. Я слышал, что коллеги Геллнера в Лондонской школе экономики были ею очень довольны, по-видимому, он вполне соответствует их уровню интеллектуального развития. Для более критичных читателей эта рецензия служит еще одним подтверждением того факта, что интеллектуалы остаются рационалистами (или «критическими» рационалистами) лишь до тех пор, пока это нужно для их целей.
Это приводит меня к последнему пункту моего ответа, а именно к попытке Геллнера защитить Лакатоса. Лакатос, говорит Геллнер, «придерживался высших стандартов строгости, ясности и ответственности» как «в своих сочинениях, так и в своих лекциях» (с. 332). Бедный Имре! Ясно только одно: стандарты Лакатоса сильно отличались от стандартов Геллнера. Лакатос в своих лекциях вовсе не избегал шуток, иронии, насмешки, он никогда не опускался до той звериной серьезности, которая отличает Геллнера, и даже в своих сочинениях он порой сворачивал с пути рациональной аргументации, чтобы отпустить язвительное замечание в адрес своих оппонентов. С другой стороны, Лакатос умел читать и не прибегал к таким объяснениям, которые я только что рассмотрел и которые можно обнаружить не только в рецензии, но во всех работах Геллнера. Не было необходимости предостерегать читателя в отношении моего посвящения (с. 331). Имре Лакатос, у которого я спросил разрешения, отнесся к этому посвящению с юмором; он знал, что это был шутливый намек на главу 16, в которой я рассматриваю его идеи, и готовился написать свой ответ. Я не сомневаюсь в том, что в его ответе не было бы скоропалительных утверждений о том, будто «квалификация позиции Лакатоса как замаскированного анархизма» не обоснована (с. 331). Он с большим вниманием относился к моим аргументам и считал, что у меня есть хорошие основания для такой квалификации. Восхваление Лакатоса Геллнером и его попытка защитить Лакатоса от меня представляется мне незаслуженным оскорблением памяти великого ученого и удивительного человека.
Глава 3.
Марксистские волшебные сказки из Австралии
В Сиднее имеется один оперный театр, один центр искусств, один зоопарк, один морской порт, но два философских отделения. Причина такой роскоши заключается не в сверхъестественной тяге антиподов к философии, а в том, что философы разделены на партии, что эти партии не всегда мирно уживаются друг с другом, и в Сиднее решили поддерживать между ними мир, разделив их институционально. Два члена Отделения общей философии, рецензировавшие мою книгу «Против метода», относятся к своей партийной линии весьма серьезно. Они отмечают, что «среди публикаций одного из ведущих издательств англоязычной литературы ПМ выделяется «левой» (даже марксистской) ориентацией», они слышали, что мои идеи «встретили теплый прием среди марксистов и радикалов», их беспокоит, что моя книга может сбить с пути хороших, честных, искренних марксистов, поэтому они решили дать оценку моей книге «с марксистской точки зрения» [201]. В итоге оказывается, что я просто овца в волчьей шкуре: я не преодолел идеологии, которую пытаюсь критиковать, я не заметил своей зависимости от этой идеологии, поэтому я вдвойне «погружен в проблематику эмпиризма» (с. 274). Авторы исправляют этот недостаток, они провозглашают новый взгляд на человеческое познание, они восстанавливают Закон и Порядок и заменяют словесные игры подлинным радикализмом тех, кто соприкасается с социальной реальностью. Если рассматривать мою книгу «по крайней мере» с их передовой точки зрения, то она «не вносит почти никакого вклада в понимание природы науки и «еще меньше» — в этико-политическую теорию. Однако она может иметь некоторое значение как показатель современного кризиса эмпиризма и либерализма» (с. 249,337—378). «С этико-политической точки зрения, — пишут они ближе к концу своего сочинения, — [моя] позиция иллюстрирует обветшалость современного либерализма, который становится все более расплывчатым и ненужным по мере того, как углубляется кризис капитализма и усиливается реакция на этот кризис со стороны угнетенных. В этой ситуации в руках паразитических интеллектуалов либерализм сводится к своему голому атому — отдельному индивиду, который мечется между отчаянием и самовосхвалением и порой прибегает к шокирующей псевдорадикальной риторике» (с. 338). После этого они отпускают испуганного (или слегка смущенного) читателя с куском истории современного эмпиризма от Венского кружка до автора ПМ.