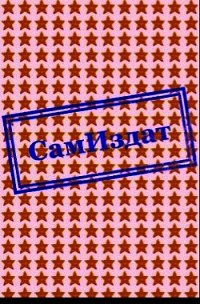Наука в свободном обществе - Фейерабенд Пол (читать книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
(1) На первый взгляд может показаться, что Геллнер довольно точно излагает то, что я говорю, поскольку его предложения похожи нате, которые встречаются в моей книге. Однако предложения в моей книге либо являются частью более широкого контекста, содержащего уточнения, либо описывают воззрения, которых я не придерживаюсь. Если держать в памяти эти уточнения и особенности использования, то эти предложения корректно выражают мои аргументы. Геллнер не обращает внимания на уточнения и действует так, как если бы я формулировал свои мнения без оговорок. Следовательно, за внешней корректностью скрываются серьезные ошибки.
Возьмем предложение (1) «подлинная история науки показывает, что реальные успехи познания противоречат всем имеющимся методологиям» (Геллнер, с. 333). Предполагается, что этот тезис формулируется или подразумевается в моей книге. Согласно Геллнеру, «это то ядро, из которого вырастает все остальное». Тем самым читателю внушают, (а) что я претендую на знание истинности каких-то исторических фактов и обобщений; (б) что я претендую на решение еще более трудной проблемы, а именно на знание того, что считать успехом познания; (в) что я опровергаю нормы посредством фактов. И это не абстрактная возможность. Геллнер сам приписывает мне претензию (а) и, опираясь на это, обвиняет меня в непоследовательности (с. 337), при этом объясняет мою самоуверенность перед лицом этой непоследовательности, ссылаясь на мое высказывание об «игре, которую (я) не могу проиграть» (с. 334). Но предложение (1), интерпретируемое как содержащее (а), (б) и (в), не является защищаемым мной тезисом. Я не утверждаю, что методологии не работают только потому, что они противоречат фактам. Давно было показано, что аргументы такого рода сомнительны. Я говорю, что они порочны, поскольку, будучи применены в обстоятельствах, перечисленных в моих примерах из истории, они препятствовали бы прогрессу. И я не претендую на знание того, что такое прогресс [185], здесь я просто следую за своими оппонентами. Они предпочитают Галилея Аристотелю. Это они говорят, что переход от Аристотеля к Галилею был шагом в правильном направлении. Я лишь добавляю, что этот шаг не только не был сделан, но и не мог быть сделан с помощью их любимых методов. Но не подразумевает ли это добавление крайне сложных утверждений относительно фактов, тенденций, физических и исторических возможностей? Конечно, это так, но нужно заметить, что я не утверждаю их истинности, как считает Геллнер. Я не стремлюсь обосновать истинность каких-то суждений, моя цель — заставить оппонента иначе взглянуть на вещи. Для достижения этой цели я предлагаю ему такие утверждения, как «Отдельная теория никогда не согласуется со всеми известными фактами в своей области» [186]. Я пользуюсь такими утверждениями, предполагая, что, будучи рационалистом, он среагирует на них предсказуемым образом. Он сравнит их с тем, что считает релевантным свидетельством: например, начнет искать отчеты об экспериментах. Эта работа в соединении с его рационалистской идеологией заставит его в конце концов «признать их истинными» (пользуясь его словами), и, таким образом, он осознает трудности, встающие перед его любимыми методологиями. Но не опираюсь ли я на предположения о мышлении, о структуре научных отчетов, об изменениях первого при столкновении со вторыми? Совершенно верно, однако я не навязываю этих предположений читателю. Они важны для меня самого и относятся к эффективности моих аргументов. Структура этих соображений не важна для рационалиста, который, в конце концов, настаивает на отделении «объективного содержания» некоторого рассуждения от его «мотивации». Все, что ему нужно рассмотреть, все, что ему позволено рассматривать, — это каким образом утверждения, сопровождающие рассмотрение исторических примеров в моей книге, соотносятся друг с другом и с историческим материалом и можно ли их считать аргументами в его смысле. Я признаю, что мои действия направлены на манипуляцию сознанием рационалиста, однако хочу заметить, что я манипулирую им так, как он хочет, чтобы им манипулировали, и как он постоянно манипулирует сознанием других людей', я предоставляю ему материал, который при интерпретации согласно рационалистическим нормам создает трудности для тех воззрений, которых он придерживается. Должен ли я интерпретировать этот материал так, как делает это он? Должен ли я «принимать его всерьез»? Безусловно, нет, поскольку мотивация, лежащая в основе аргументации, не затрагивает ее рациональности и, следовательно, не подвергается никакому ограничению.
Высказывания (2) и (3), которые приводит Геллнер, и основания для них, которые он мне приписывает, столь же неадекватны. Я не согласился бы с «это показывает» (с. 333), ибо мне известно, что мы можем «улучшать эти методологии» (с. 334); я не согласился бы с выражением «все», в частности, потому, что я верю в здравые методологические предложения [187] и выступаю только против универсальных методов, отвлекающихся и от содержания теории, и от контекста ее обсуждения [188]. И я никогда бы не решился предписывать законы ученым или кому-то еще, как предполагает Геллнер в (5) и (6). Правда, я делал это в своих ранних статьях, когда я был моложе, более невежествен, напорист и гораздо более самоуверен [189]. В то время мои аргументы в пользу пролиферации имели цель показать, что монистическая жизнь не имеет ценности, и побуждали человека думать, чувствовать, жить, пробуя разные альтернативы. Сегодня те же самые аргументы преследуют совершенно иные цели и ведут к совершенно иному результату [190]. Теперь ученые и рационалисты добились почти полного успеха в том, чтобы базисом западной демократии сделать свои собственные идеи. Они допускают, хотя и весьма неохотно, что другие идеи можно выслушивать, однако не позволяют им играть какую-либо роль в функционировании фундаментальных общественных институтов, таких как право, образование, экономика. Следовательно, демократические принципы в их сегодняшнем использовании несовместимы с безболезненным существованием и развитием отдельных культур. Рационально-либеральная демократия не может вместить в себя культуру хопи в полном ее смысле. Она не может вместить в себя культуру чернокожих или еврейскую культуру. Эти культуры она может принять только в качестве вторичных прививок к базисной структуре, образованной нечестивым альянсом науки, рационализма (и капитализма). Все попытки возродить традиции, которые были отброшены и уничтожены в процессе экспансии западной культуры, и сделать их основой жизни особых групп разбивались о непреодолимую стену рационалистических фраз и предрассудков. Я пытаюсь показать, что нет никаких аргументов в поддержку существования этой стены и что некоторые принципы, неявно содержащиеся в науке, говорят в пользу ее устранения [191]. С моей стороны не было попыток показать, что «крайняя форма релятивизма обладает ценностью»(с. 336). Я не пытаюсь оправдать «автономность каждого настроения, каждого каприза и каждого индивида» (там же). Я говорю лишь о том, что путь к релятивизму все еще не был перекрыт разумом, так что рационалист не может предъявить возражений тому, кто идет по этому пути. Конечно, сам я испытываю симпатию к этому пути и считаю, что это — путь к развитию и свободе, однако это уже другое дело.
Если говорить более конкретно, то ситуация представляется следующим образом. Я не доказал, что пролиферация должна использоваться, я лишь показал, что рационалист не может исключить ее. И я сделал это не негативом показа, как можно отбить существующие возражения, а позитивно — посредством рассуждения, выводящего пролиферацию из собственной идеологии мониста. Рассуждение распадается на две части, одна из которых опирается на науку, а вторая — на отношение между научной и ненаучной идеологиями. Рассуждение, опирающееся на науку, говорит о том, что пролиферация является следствием собственного стремления ученого к увеличению эмпирического содержания (ПМ, с. 53). Я не признаю требования увеличивать эмпирическое содержание, ибо оно является лишь одним из способов внести порядок в наши убеждения (там же, с. 213), поэтому я не выступаю за его следствия. Я утверждаю лишь одно: ученый, стремящийся к увеличению эмпирического содержания, должен одобрять пролиферацию, следовательно, не может отвергать ее [192]. Аргумент от существования несоизмеримых идеологий говорит, (а) что их сравнение не затрагивает содержания и поэтому не может быть выражено в терминах истины или лжи, разве что риторически (глава 17) [193], (б) что каждая идеология обладает своими собственными методами и что сравнительная оценка этих методов еще даже не начиналась. Все, что у нас есть, это догматическая убежденность в превосходстве «научных методов» (причем у каждого имеются свои представления о том, что это за методы). Но (в) не-научные идеи и методы вовсе не являются совершенно ошибочными, в прошлом они часто приводили к удивительным открытиям, они часто превосходят соответствующие научные идеи и приводят к лучшим результатам (см. ПМ, с. 64 и далее) [194]. Суммируя все эти аргументы, я делаю вывод о том, что человек, стремящийся ввести необычные идеи, методы, формы жизни или возродить такие идеи, методы, формы жизни, не должен колебаться, ибо разум еще не успел воздвигнуть препятствий на этом пути, а научный разум даже призывает нас увеличивать число альтернатив. Единственными препятствиями, с которыми он может столкнуться, являются предрассудки и самонадеянность.