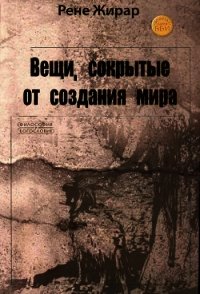Насилие и священное - Жирар Рене (читать книги полные .TXT) 📗
Инцестуальное прегрешение придает царю царственность, но само оно царственно лишь потому, что виновный в нем подлежит смерти, что оно отсылает к первоначальной жертве. Этот факт будет особенно ясен, если обратиться к достаточно примечательному исключению среди обществ, требующих королевского инцеста. Исключение это — попросту строгий и абсолютный отказ от королевского инцеста. Можно было бы решить, что этот отказ основан на общем правиле, то есть на безусловном запрете инцеста, не допускающем никаких исключений. Но дело обстоит отнюдь не так. В этом обществе королевский инцест не просто в принципе отвергнут, как это бывает в большинстве обществ, — против него принимают чрезвычайные меры предосторожности. Свита монарха удаляет от него его близких родственников, его заставляют принимать не укрепляющие, а подавляющие снадобья. То есть вокруг трона витает та же аура инцеста, что и в соседних монархиях [37]. Особые меры против инцеста оправданы лишь в том случае, если король все равно считается предрасположенным к именно этому разряду прегрешений. Поэтому можно признать, что суть королевской власти остается одной и той же во всех случаях. Даже в том обществе, где инцест категорически запрещен, король замещает изначальную жертву, которая, как считается, нарушила правила экзогамии. Именно в качестве преемника и наследника этой жертвы король и остается особо предрасположен к инцесту. Копия должна включать все качества оригинала.
Здесь заново подтверждается общее правило, абсолютный запрет на инцест, но настолько особым образом, что логичнее видеть в нем скорее исключение из исключения и толковать отказ от инцеста в контексте тех культур, которые его требуют [от короля]. Главный вопрос звучит так: почему повторение инцеста, непременно приписываемое первоначальному изгнаннику, предку или мифологическому герою-основателю, считается то максимально благотворным, то максимально вредным, причем в обществах, очень близких друг другу? Настолько резкое противоречие между общинами, религиозные представления которых — за вычетом инцеста — остаются очень близки друг другу, вроде бы ставит под сомнение всякую попытку рациональной интерпретации.
Отметим для начала, что наличие такого религиозного мотива, как королевский инцест, в достаточно обширной культурной зоне предполагает наличие определенных «влияний» в традиционном смысле слова. Мотив инцеста не может быть «изначальным» в каждой из этих культур. Свидетельства этому неоспоримы. Значит ли это, что наша общая гипотеза уже неприменима?
Мы утверждаем, что учредительное насилие — матрица всех мифологических и ритуальных смыслов. Это утверждение может иметь буквальную верность лишь по отношению к насилию, так сказать, абсолютному, совершенному и совершенно спонтанному, составляющему предельный случай. Между этой совершенной первичностью и, на другом конце, совершенной повторяемостью ритуала можно предположить буквально бесконечную гамму промежуточных коллективных операций. Наличие на обширной территории общих религиозных и культурных мотивов отнюдь не исключает — на локальном уровне — реального опыта учредительного насилия, в рамках этих промежуточных форм, наделенных — на мифологическом и религиозном уровне — реальной, но ограниченной творческой силой. Тогда можно объяснить, откуда взялось такое количество переработок одних и тех же мифов и тех же культов, столько местных вариантов, столько разных рождений одних и тех же богов в стольких разных городах.
С другой стороны, необходимо отметить, что мифологическая и ритуальная разработка, хотя и способна к бесконечным вариациям в деталях, все равно неизбежно вращается вокруг нескольких главных тем, в том числе и вокруг инцеста. Как только отдельный индивид начинает казаться виновником жертвенного кризиса, то есть виновником утраты всех различий, то его [индивида] называют разрушителем и тех фундаментальных правил, какими являются правила матримониальные, иными словами — принципиально «инцестуальным». Мотив инцестуального изгнанника не универсален, но он фигурирует в совершенно независимых друг от друга культурах. Тот факт, что этот мотив мог спонтанно возникнуть в самых разных местах, не противоречит идее культурной диффузии в очень обширной зоне.
Гипотеза жертвы отпущения позволяет найти не одни, а тысячи средних терминов между слишком абсолютной пассивностью и непрерывностью диффузионизма, с одной стороны, и столь же абсолютной прерывностью любого современного формализма — с другой. Эта гипотеза не исключает заимствований у материнской культуры, но признает за заимствованными элементами в дочерней культуре известную степень автономии, позволяющую истолковать только что отмеченное странное противоречие между безусловным требованием и категорическим запретом на один и тот же инцест, в двух очень близких культурах вполне явно связанный с персоной короля. Мотив инцеста на уровне локального опыта постоянно подвергается интерпретациям и переинтерпретациям.
Ритуальное мышление стремится к повторению учредительного механизма. Единодушие, которое вносит порядок, мир, согласие, всегда наступает после своей противоположности, то есть после пароксизма насилия, которое вносит раздор, нивелирует и разрушает. Переход от пагубного насилия к тому высшему благу, каким являются мир и порядок, почти мгновенен; две противоположные стороны первоначального опыта оказываются в непосредственной близости; именно в момент краткого и страшного «совпадения противоположностей» община снова обретает единодушие. Поэтому нет такого жертвенного ритуала, который бы не включал и какие-то формы насилия, который бы не усваивал какие-то значения, прямо связанные скорее с самим жертвенным кризисом, чем с избавлением от него. Инцест — пример этого. В системах, требующих королевского инцеста, его считают частью спасительного процесса и, следовательно, тем, что нужно воспроизводить. Здесь все ясно и понятно.
Но главная — даже единственная — функция ритуала состоит в том, чтобы предотвратить возврат жертвенного кризиса. А инцест связан с жертвенным кризисом; он даже способен косвенно обозначать его весь целиком, когда это обвинение возлагается на жертву отпущения. Поэтому ритуальное мышление может отказаться от взгляда на инцест как на фактор коллективного спасения, даже когда этот инцест связан с жертвой отпущения. Оно по-прежнему видит в инцесте акт прежде всего пагубный, грозящий погрузить общину в заразное насилие, пусть он и совершен наследником и представителем первоначальной жертвы.
Инцест неотъемлем от того зла, которое надо предотвратить. Но предотвращают это зло, повторяя акт исцеления, неразрывно связанный с пароксизмом зла. Ритуальное мышление сталкивается с проблемой размежевания, которая не имеет решения или, точнее, в решении которой неизбежно присутствует элемент произвола. Ритуальное мышление готово — гораздо охотнее, чем мы, — признать, что добро и зло — просто два аспекта одной реальности, но оно не может признать это до конца: даже в ритуале, наименее дифференцированном из всех модусов человеческой культуры, должно сохраняться различие — ритуал нужен лишь затем, чтобы восстановить и укрепить различие, после страшного стирания всех различий во время кризиса. В различии между насилием и не-насилием нет ничего произвольного или воображаемого, но люди это различие — по крайней мере, частично — всегда проводят внутри самого насилия. Именно поэтому ритуал и возможен. Ритуал выбирает определенную форму насилия как «хорошую», очевидно необходимую для единства общины, в отличие от другого насилия, которое остается «пагубным», поскольку отождествляется с пагубной взаимностью. Поэтому ритуал может выбрать некоторые формы инцеста как «хорошие» — например, королевский инцест, — в отличие от других форм, которые остаются «пагубными». Точно так же он может решить, что пагубными остаются все формы инцеста вообще, то есть отказаться допустить даже королевский инцест в число действий если не входящих в само жертвоприношение, то, по крайней мере, способных усиливать жертвенную эффективность царской персоны.