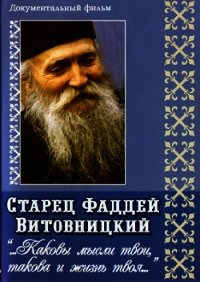Из жизни идей - Зелинский Фаддей Франкович (читаем книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
Как видит читатель, борьба астрологии с наукой велась далеко не безуспешно для первой; она деятельно отбивалась от ударов физики и астрономии и из каждой стычки с ними выходила только более сильной и способной к сопротивлению. Немудрено поэтому, что в конце концов она одержала решительную победу. Этой победой было обращение в астрологическую веру самого славного из астрономов императорской эпохи, того, работы которого мы привыкли считать венцом античной космографии, – Клавдия Птолемея. Написав свое знаменитое космографическое сочинение, основание всех трудов и исследований в этой области вплоть до Коперника, Птолемей обратил внимание и на астрологию; ей он посвятил свое второе главное произведение. В нём он оградил астрологию со стороны науки точно так же, как некогда Посидоний оградил её со стороны философии. Как человек трезвого, тонкого ума, он старался по возможности ограничить область абсурда; он относится с явным недоброжелательством к наивной качественной дифференциации знаков зодиака, заменяя его в этом отношении кругом генитуры с его произвольной, но все же более разумной терминологией. Равным образом он устраняет все мифологические объяснения; его объяснения – преимущественно физические. Вообще, в его обработке астрология получила всё внешнее подобие настоящей серьёзной науки; что только мог сделать человеческий ум для того, чтобы из целого хаоса произвольных, ребяческих и часто противоречивых традиций создать единую, сплочённую и последовательную систему, то сделал для астрологии Птолемей.
XVII. Всё же важность Птолемея для астрологии могла сказаться лишь позднее. Ближайшая судьба нашей науки зависела от того, будет ли она принята в ковчег христианства. А туда ей Птолемей доступа открыть не мог: плоскостью непосредственного соприкосновения античной мысли с христианской была не наука в тесном смысле, а философия. Правда, с философией у астрологии были давнишние хорошие отношения, благодаря стоицизму и Посидонию; но ореол стоической метафизики стал заметно меркнуть к эпохе распространения христианства: его затмевал чем далее, тем более блеск другого, гораздо более мистического учения – неоплатонического. Неоплатонизм был для астрологии первой инстанцией – через него и благодаря ему она могла рассчитывать также и на пощаду со стороны христианства. Но для этого нужно было подвергнуть астрологию экзамену по той её части, которою она, как наука преимущественно практическая, всегда сравнительно мало интересовалась, предоставляя её своей союзнице, стоической философии. Первый вопрос: как велит она нам думать о свободе воли и о предопределений Второй: что представляют из себя, теологически рассуждая, её планетные божества?
Астрологи были не прочь признать свои планетные божества высшими и единственными. Но с таким представлением неоплатоники никак примириться не могли: у них имелось одно высшее божество и ступенью ниже – ряд низших, которые тоже ничуть не походили на астрологические планеты; что же касается последних, то неоплатонизм – в лице своего корифея Плотина – мог признать за ними только значение возвестителей; «движение звёзд предвещает судьбу каждого, но не создает её, как неправильно понимает толпа». Астрологи роптали, но делать было нечего, пришлось покориться. На деле же Плотин оказал их науке гораздо больше пользы, чем вреда; действительно, в той теологически безобидной форме, которую он ей придал, она могла ужиться со всякой религией, не исключая и христианства. Почему бы не быть планетам огненной грамотой, написанной Творцом на небесной тверди в назидание смертным? Что же касается предопределения, то астрология могла спокойно ждать, пока христиане решат между собой этот труднейший вопрос: её метафизический индифферентизм давал ей возможность во всякое время примкнуть к победителю, кто бы он ни был.
Всё же желанная позиция в христианском миросозерцании досталась астрологии не без боя. Никакие метафизические различения не могли устранить того глубоко антипатичного христианам факта, что астрологические божества носили имена языческих дьяволов, Юпитера, Венеры, Сатурна, Марса. В силу одного этого положение, занятое христианством по отношению к астрологии, было принципиально враждебно; после долгой абсолютной власти над умами людей она вновь очутилась в положении просительницы. Но просить она умела. Рождение Основателя новой религии было ознаменовано появлением новой звезды; можно ли после отрицать, что Создатель пользуется звёздами для того, чтобы возвещать людям свою волю? И кто были те, которые, поняв значение чудесной звезды, пришли отдать дань благоговения возвещенному ею Младенцу? Волхвы (magi), т. е. халдеи, – так утверждали астрологи, и христиане с ними соглашались.
XVIII. Зато теперь она – наука умершая, великолепная мумия в музее исторических заблуждений. Но когда умерла она и от чего? Умерла она, отвечает Буше-Леклерк, от того смертельного удара, который ей нанес Коперник. Так ли это? Нет; мы вообще не видим в открытии Коперника ничего такого, что могло бы окончательно подорвать кредит этой своеобразной науки. Оно исключило Солнце и Луну из числа планет, конечно; но уже древние астрологи отводили им, как «светилам», особое место не столько среди них, сколько рядом с ними. Вычисления затмений солнечных и лунных и до Коперника производились с приблизительною правильностью, и их формулы не изменились от того, что Солнце и Земля поменялись местами. Нет; умерла астрология тогда, когда у неё отняли её душу, когда место догмата всемирной симпатии занял догмат всемирного тяготения. Нанесённый Коперником удар мог лишь на время её оглушить; задушил её Ньютон. Чтобы убедиться в этом, представим себе ещё раз со всей возможной яркостью то миросозерцание, показателем которого был догмат всемирной симпатии.
Науку ремесленную, как свод правил, непосредственно применимых к тому или другому практическому делу, знали многие народы; наука, независимая от практических расчетов, наука в высшем, идеальном значении слова была в древности достоянием одних только эллинов. От них её унаследовали мы; наследие это с течением веков стало нашей столь полной собственностью, что мы его считаем как бы частью своей натуры. По той же причине мы и не ставим себе вопроса о причине научного стремления человеческого духа. Потому дорожил грек наукой, потому испытывал он нравственный подъём при погружении в нее, что для него она сводилась, как для Фауста, к общению духа с духом.
Знаменитый Фр. Араго в одной своей парламентской речи рассказывает о совете, данном ещё более знаменитым Эйлером своему другу, берлинскому пастору. Этот друг его жаловался на плохое внимание его прихожан к одной его проповеди, имевшей своим предметом сотворение мира. «Я представил им, – говорил он, – мироздание, с его самой прекрасной, самой поэтической, самой чудесной стороны; я приводил древних философов и даже Библию, и что жё Половина моей аудитории меня не слушала; другие половина дремала или оставила храм». Эйлер посоветовал ему изобразить мироздание не по древним или по Библии, а по данным новейшей астрономии. «В вашей не понравившейся проповеди вы, вероятно, следуя Анаксагору, сказали, что Солнце по объёму равняется Пелопоннесу; скажите вашей аудитории, что по точным, не допускающим сомнений, вычислениям наше Солнце в миллион двести тысяч раз больше Земли… Планеты в вашем изложении только своим движением отличались от неподвижных звезд; предупредите ваших слушателей, что Юпитер в тысячу четыреста раз больше Земли, а Сатурн – в девятьсот… Скажите, что нет звезды, свет которой достигал бы нашей Земли ранее трёх лет, но что есть такие, свету которых нужно много миллионов лет для того, чтобы пройти отделяющее их от Земли пространство». Пастор последовал совету Эйлера – и вслед за тем вернулся к своему другу в состоянии, близком к отчаянию. «Что случилось?» – «Люди позабыли о почтении к святому храму: они провожали меня аплодисментами!»
Трудно сказать, как отнеслась бы античная аудитория к первой проповеди нашего пастора; зато несомненно, что на второй она бы заснула. С её точки зрения, только грубый, варварский ум может приходить в восторг от одной громадности цифр, от этого серого тумана бесконечности, в котором ничто не дает пищи ни нашему воображению, ни нашему сердцу. Конечно, для астрономических вычислений очень важно знать действительный объём Солнца, но это – область науки, простому смертному недоступная. А для него, для простого смертного, что пользы в том, что новейшая наука исправила наивную оценку Анаксагора, когда для него и Пелопоннес, и миллион с лишком земных шаров – одинаково необозримая величина?