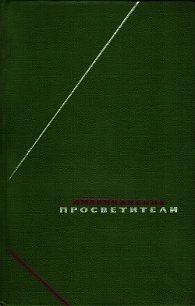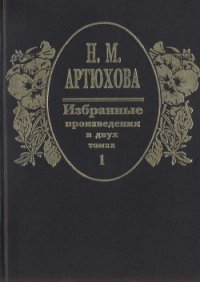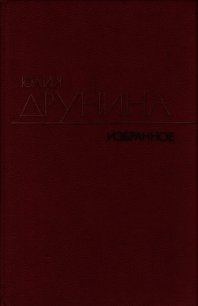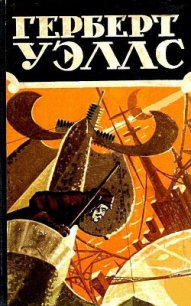Американские просветители. Избранные произведения в двух томах. Том 2 - Томас Пейн (книга регистрации .TXT) 📗
Отложим в сторону все, что может возбудить смех своей абсурдностью или отвращение — пошлостью, и ограничимся лишь проверкой отдельных частей [легенды]. Но и тогда невозможно вообразить историю, более умаляющую всемогущего, более несовместимую с его мудростью, более противоречащую его могуществу, чем эта.
Чтобы подвести под нее основания, сочинители вынуждены были наделить сатану мощью, равной той, какую они приписывали всемогущему, если даже не большей. Они не только наделили его способностью освободиться из пропасти после его так называемого низвержения, но и умножили его последующую власть до бесконечности. До низвержения они представляли сатану только ангелом, ограниченным в пределах своего существования подобно другим ангелам. После же падения он стал, по их сведениям, вездесущим. Он существует повсюду одновременно. Он занимает всю безмерность пространства.
Не удовлетворенные этим обоготворением сатаны, они представляют его побеждающим — посредством хитрости и в образе сотворенного животного — всю силу и мудрость всемогущего. Они представляют дело так, будто сатана принудил всемогущего к прямой необходимости либо отдать все сотворенное под его власть и господство, либо обусловить искупление [человечества] своим сошествием на землю и смертью на кресте в образе человека.
История была бы менее абсурдной и противоречивой, если бы сочинители рассказали ее наоборот, а именно так, что всемогущий заставил самого сатану предстать распятым на кресте в образе змея за его новое погрешение. Но вместо этого грешник торжествует, а всемогущий терпит поражение.
Я не сомневаюсь, что многие прожили свою жизнь весьма благонравно, веря в эту сказку. Ведь легковерие не преступление. Прежде всего они получили такое воспитание, что поверили в нее, как поверили бы во что-нибудь другое.
Много и таких, кто был столь восхищен бесконечной любовью бога к человеку, выразившейся в самопожертвовании, что сила этой идеи запретила и удержала их от исследования абсурдности и нечестивости всей истории. Чем неестественнее вещь, тем скорее способна она стать предметом пагубного восхищения.
Но если мы желаем иметь предмет благодарности и восхищения, то не является ли он ежечасно перед нашим взором? Не зрим ли мы прекрасное творение, готовое принять нас в тот самый момент, как мы родились, — мир, устроенный для нас и ничего нам не стоивший? Разве мы зажгли солнце, проливаем дождь и наполняем землю изобилием? Спим мы или бодрствуем, великий механизм Вселенной движется.
Разве все эти вещи и блага, которые они предвещают в будущем, ничто для нас? Или наши грубые чувства не могут уже ничем быть возбуждены, кроме трагедии и самоубийства? Или мрачная гордость человека стала столь нетерпимой, что ничто уже не может ей польстить, кроме принесения в жертву самого творца?
Я знаю, что это смелое исследование многих встревожит, но слишком большая честь была бы оказана их легковерию, если бы я пощадил его на этом основании. Время и предмет требуют такого исследования. Во всех странах крепнет подозрение, что учение так называемой христианской церкви — легенда, и свободное исследование предмета ободрит колеблющихся и сомневающихся, во что им верить, а во что нет. Поэтому я перейду к исследованию книг, именуемых Ветхим и Новым заветом.
Эти книги, начиная с книги Бытия и кончая Откровением [Иоанна Богослова] (которое, кстати, есть книга загадок, требующих откровения для своего понимания), как нам говорят, являются словом божьим. Поэтому нам следует узнать, кто нам это говорит, чтобы узнать, какое доверие питать к такому заявлению. Ответ на этот вопрос таков: никто не может нам ничего сказать, за исключением того, что мы сами говорим так друг другу. Исторически дело выглядит следующим образом.
Когда церковные мифотворцы основали свою систему, они собрали все писания, которые только могли найти, и расположили их, как им заблагорассудилось. Мы не можем определить, находятся ли книги, которые фигурируют под названием Ветхого и Нового завета, в том же состоянии, в каком, как говорят собиратели, они их нашли, или же они их дополнили, сократили, изменили и обработали.
Как бы то ни было, они решили голосованием, какие книги из их собрания являются словом божьим, а какие нет. Некоторые они отвергли, другие объявили сомнительными — таковы книги, называемые апокрифами; а те книги, которые собрали большинство голосов, были объявлены словом божьим. Если бы они проголосовали иначе, все люди, называющие себя христианами, верили бы иначе: ведь верование одного проистекает здесь из решения другого. Кто были те люди, которые все это совершили, мы не знаем. Они называют себя общим именем Церкви — вот все, что мы об этом знаем.
Поскольку у нас нет другого внешнего доказательства или свидетельства в пользу того, что эти книги являются словом божьим, кроме упомянутого,— что вообще не есть ни доказательство, ни свидетельство,— я приступлю теперь к исследованию внутренних доказательств, содержащихся в самих книгах.
Выше я говорил об откровении; теперь я буду дальше исследовать этот предмет, с тем чтобы приложить свои выводы о нем к рассматриваемым книгам.
Откровение — сообщение о чем-то, чего лицо, которому сделано откровение, прежде не знало. Ибо если я сделал какую-либо вещь или видел, как она была сделана, мне не нужно откровения, говорящего мне о том, что я ее сделал или видел, как не нужно его и для того, чтобы я мог о ней рассказать или написать.
Откровение поэтому не может быть приложено к чему-либо происшедшему на земле, участником или очевидцем чего был сам человек. Значит, все исторические и повествовательные части Библии, которые занимают почти всю ее, не подходят под значение слова «откровение», почему и не являются словом божьим.
Что общего имеет откровение с такими вещами, как история о том, как Самсон унес столбы от ворот Газы, если только он это сделал (что, впрочем, нам безразлично), или как он посещал Далилу, или поймал лисиц, или совершил еще что-либо? Если это факты, он мог сам о них рассказать, или его секретарь, если он держал такового, мог их записать, если уж они стоили устного или письменного упоминания. А если это выдумки, то никакое откровение не могло бы сделать их истинными. Но истинны они или нет, узнав их, мы не стали ни лучше, ни умнее. Когда мы созерцаем необъятность существа, управляющего непостижимым целым, лишь часть которого может открыть человеческий взор, мы должны стыдиться называть такие жалкие россказни словом божьим.
Что же касается рассказа о сотворении, которым открывается книга Бытия, то он имеет все признаки предания, которое бытовало среди израильтян до их прихода в Египет. После же их ухода из этой страны они поместили его в начале своей истории без указания того (они, всего вероятнее, и сами этого не знали), как оно попало к ним. Уже начало рассказа показывает, что это предание. Он начинается внезапно: нет никого, кто говорит; нет никого, кто слушает; он ни к кому не обращен; в нем нет ни первого, ни второго, ни третьего лица; у него все признаки предания; он не имеет поручителя за свою достоверность. Моисей не взял это на себя и не снабдил эту историю, как он сделал в других случаях, формальным заявлением: «И сказал господь Моисею...»
Я не могу понять, почему она была названа рассказом Моисеевым о сотворении мира. Моисей, думается мне, слишком хорошо мог судить о таких вещах, чтобы поставить под этим рассказом свое имя. Он получил образование среди египтян, людей, искусных в науках, и особенно в астрономии, не хуже других людей того времени; а молчание и осторожность, которые соблюдает Моисей, не желая удостоверять истинность этого рассказа, лучше всего свидетельствуют, что он не сообщал его и не верил в него сам.
Дело в том, что каждая нация созидала мир по-своему, и израильтяне имели на это такое же право, как и все остальные. А поскольку Моисей был израильтянином, он, видимо, не счел возможным противоречить [их] преданию. Сам рассказ, однако, безобиден, чего нельзя сказать о многих других частях Библии {3}.