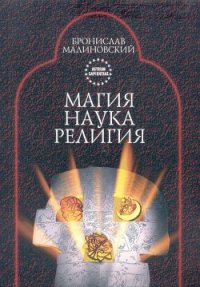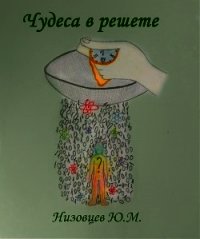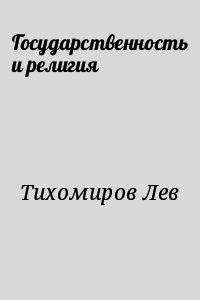Наука и религия в современной философии - Бутру Эмиль (книги без регистрации TXT) 📗
По-видимому нельзя не согласиться с Гербертом Спенсером в том, что решительное отделение разума от чувства должно быть признано несостоятельным, если только мы не хотим свести разум к диалектической технике рассуждений и не пытаемся восстановлять в душе человеческой те перегородки, которые с таким трудом разрушила современная психология. Живой, определенный, деятельный разум не есть нечто данное, некоторый обособленный, вечный и неподвижный атрибут души человеческой. Он изменяется, создает и формирует себя, поднимаясь все выше и выше. Он культивирует себя, питаясь истинами, как утверждал Декарт. Наука и жизнь — вот его двойная школа. Он комбинирует, упорядочивает, концентрирует и упрочивает наиболее основательное, полезное, человечное и возвышенное из того, что создается развитием всех человеческих способностей: опытом, чувством, воображением, желанием, волей. С полным правом, поэтому, играет он роль нашего высшего вождя как на практике, так и в теории.
И конечно, скорее именно к разуму, понимаемому в этом смысле, нежели к обособленному, слепому и инертному чувству, выдуманному абстрактным рационализмом, апеллирует Герберт Спенсер, желая узнать, возможно ли для человека отрицать Непознаваемое. И он полагает, что такое отрицание было бы противно разуму, было бы немыслимо даже в том случае, если бы мы, не погрешая против логики, могли утверждать, что явление себе довлеют, что наука должна и может устранить все тайны. Человеку пришлось бы отказаться от своих высших способностей, которые более чем что-либо другое, делают его человеком, если бы он согласился с допущением, что бытие и развитие исчерпывается наличными и возможными содержаниями нашего познания.
Напрасно поэтому упрекают Герберта Спенсера в том, что он якобы противоречит себе, утверждая сверхчувственную реальность, объект религии, на ряду. с данным миром, объектом науки; напрасно обращаются к теории атрофирующихся органов и биологических переживаний для того, чтобы объяснить себе это мнимое противоречие. Достаточно указать на то, что Герберт Спенсер опирается не просто на науку, а на науку, истолкованную разумом, для того чтобы это противоречие исчезло. Ибо в самом человеческом разуме, как он формируется при столкновении с вещами, начертано утверждение этой невидимой реальности, высшей, нежели то, что может нам быть дано в опыте.
Но сверхчувственное Герберта Спенсера обладает характером бытия в порядке более высоком, трансцендентном и недоступном для нас. Герберт Спенсер называет его Непознаваемым. Он запрещает нам стремиться к определенному познанию („realize in thought“) сверхчувственного. Мы впадаем, говорит он, в неразрешимые противоречия, мы перестаем понимать самих себя, как только пытаемся пойти дальше простой констатации существование Непознаваемого, как первопричины. Здесь, быть может, действительно наиболее уязвимая сторона его доктрины.
В самом деле, неоднократно уже указывалось, что Герберт Спенсер не смог обосновать абсолютную трансцендентность и непознаваемость того основного начала, к которому привела его цепь его рассуждений. Его абсолютное есть сила, могущество, энергия, бесконечное, источник сознания, общая основа „я“ и „не-я“, превосходящая разум и личность. Можно ли после этого утверждать, что оно для нас совершенно непознаваемо? и если все эти предикаты, которые Спенсер не затруднился придать абсолюту, правомерны, то не очевидно ли, что они составляют зародыши познания, способный прогрессировать и развиваться?
Чтобы определить значение Спенсеровского агностицизма, необходимо исследовать его принцип. Принцип этот объективизм. Герберт Спенсер утверждает, что применение чисто объективного метода есть условие всякой науки, всякого действительного познания. Факты — вот единственный источник знания; и название факта заслуживает лишь то, что воспринято или может быть воспринято, как внешняя вещь, противостоящая познающему субъекту, лишь то, что может быть охвачено познанием как законченный, прочный, отдельный объект, что может быть точно выражено в понятии и слове.
Ив такого учение о познании, действительно, необходимо вытекает, что сверхчувственное, если оно существует, непознаваемо. Ибо очевидно, что оно не может быть частью бытия, существующей бок о бок с другими его частями, не может быть объектом в том смысле, какой придает этому термину объективизм. При таком понимании между ним и миром науки нет никакого перехода. Если сверхчувственное существует, оно должно витать в пустоте, на бесконечном расстоянии от всех объектов, доступных нашим средствам познания. Для последовательного объективизма абсолютное или не существует или существует буквально вне мира, в области трансцендентного.
Вопрос заключается в том, является ли абсолютный объективизм возможной и правомерной точкой зрения. Конечно, возможность объективистской точки зрение есть постулат науки: основываясь на этой точке зрения, наука считает себя вправе выделять из совокупного материала природы ясные и точно очерченные образы, группировать их, сравнивать, соподчинять, противополагать, сближать. Но можно ли утверждать, что наука достигает той совершенной объективности, к которой она стремится? Не является ли скорее сама она, как и все человеческие дела, компромиссом между идеальным и возможным? Достигает ли она когда-либо данных, совершенно очищенных от субъективного элемента, результатов, конкретное значение которых нисколько не опиралось бы на чувство? Правда, в науках физико-математических разум человеческий приближается к совершенной объективности, так что порой создается иллюзия, что эта последняя вполне реализована. Но отсюда еще не следует, что достижимое в одной области познание возможно и нужно во всех его других областях. Почему все науки должны быть построены по одному и тому же типу и почему типом этим должна быть физическая необходимость? Разве одного случая достаточно для того, чтобы делать из него общий вывод? Почему именно наука составляет исключение из того общего правила, что разум человеческий видоизменяет свои понятия сообразно с реальными объектами, а не навязывает их реальным объектам? Почему в применении к самой науке метод не должен приспособляться к объекту?
Далеко не очевидно, что даже в физических науках действительно устранены или могут быть устранены всякие следы субъективизма. Но мы совершенно ясно видим, какое опустошение и искажение претерпели бы науки, касающиеся духовной области, если бы мы действительно попытались применять к ним чисто объективный метод. В частности, можно ли таким путем выяснить те специфические и характерные черты, которые свойственны религиозным явлениям? Рассматриваемые исключительно извне, они сводятся в индивидууме к известным нервным процессам, в обществе — к известной сумме догматов, обрядов и учреждений. объяснение их пришлось бы искать в каком-нибудь примитивном, заимствованном из повседневной жизни явлении, вроде веры в реальное существование Двойника. Но разве элементами этого рода — внешними, обособленными, представимыми и измеримыми явлениями — исчерпывается содержание действительных религий? Разве во всех религиях на протяжении их многовекового развития, разве в религии, которая существует среди нас самих, действительно нет ничего другого? Разве не имеет никакого значение внутренняя жизнь буддиста или христианина, такая интенсивная, глубокая и богатая? Не есть ли мистицизм особая форма религиозной жизни? И неужели протестантизм лишен всякого значительного содержания? Здесь кажется, особенно уместно припомнить знаменитый стих Шекспира:
There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy 15).
Религия есть прежде всего соединительное звено между относительным и тем абсолютным, бесконечным и совершенным, которое постигал Герберт Спенсер. Она есть в то же время стремление развивать и направлять к совершенству нашу субъективную жизнь и познание, чувство связи между внешним, частным, ограниченным, неверным бытием и общим источником всякого бытия, — чувство, которое, как говорит Спенсер, само собою обнаруживается и как бы застигается нами врасплох в том, что мы называем сознанием.