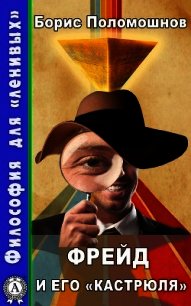Народ без элиты: между отчаянием и надеждой - Панарин Александр Сергеевич (читать книги онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
Но новый Земельный кодекс, как и все реформаторские экономические решения, ему предшествующие, свидетельствует не только о перемене статуса элиты с национального на глобальный. Он лежит в контексте еще одного эпохального переворота, развертывающегося на наших глазах: перехода от продуктивного капитализма веберовского типа* к новому спекулятивно-ростовщическому капитализму, связанному с постпродуктивными практиками валютных манипуляций, неэквивалентного обмена и получения всякого рода нетрудовых рент.
Элиты, пожелавшие стать глобальными, не только отказались от национальной идентичности и от защиты национальных интересов. Они отказались разделять с собственными народами тяготы существования, связанного с заповедью «в поте лица своего добывать хлеб насущный». Элиты заявили о своем праве свободно мигрировать из трудных в легкие, привилегированные пространства, из сфер, требующих напряжения и ответственности, – в прекрасный новый мир, где царят легкость и безответственность.
Реабилитация элит, произошедшая в постфеодальную эпоху, была как раз вызвана тем, что элиты подключились к продуктивным видам деятельности, связанным с соединением творческого труда с производством. Творческое напряжение и повседневная социально-организаторская ответственность элит по большому моральному счету могли оцениваться никак не ниже, чем повседневное усердие масс. Более того: элиты стали выступать в роли инновационных групп, первыми осваивающими новые возможности эпохи модерна и постепенно делающими их всеобщим достоянием. Именно таким был цивилизационный механизм модерна, связанный с воспроизводством на массовом уровне достижений элитарных творческих групп.
И вот теперь в глобальную эпоху мы столкнулись с элитами, предпочитающими, во-первых, имитаторскую и плагиаторскую активность, связанную с внешними заимствованиями, тяготам и рискам собственного творческого поиска; во-вторых, стремящимися зарезервировать все передовые достижения исключительно за собой, не чувствуя при этом никаких обязательств перед собственными нациями. Так появился в мире новый тип глобалистов-западников.
При этом подвергся существенной реинтерпретации сам эмансипаторский процесс эпохи модерна: прежде его понимали как раскрепощение инициативной «фаустовской» личности, требующей не свободы сибаритства, а свободы напряженной творческой инициативы во всех областях жизни. И вот со временем какой-то микроб подточил энергию и нравственное здоровье прежнего «фаустовского типа». Он заново открыл для себя современность: уже не как поле свободного труда и творческого дерзания, а как десоциализированное пространство гедонистического индивидуализма, не желающего знать никаких социальных заданий и обязательств.
Новоевропейский проект эмансипации личности незаметно был подменен проектом эмансипации инстинкта – главным образом инстинкта удовольствия. В особенности такая подмена устраивала наших нуворишей приватизации, мнящих себя новыми элитами. Приобщиться к мировой элите по стандартам творчества они заведомо не могли, а вот вписаться в нее по потребительско-гедонистическим стандартам они пожелали всерьез. К этому толкованию элитарного существования их уже частично приучила советская система спецраспределителей, и тогда надежно спрятанная от «этого» народа.
Литературная классика описала энтропийный процесс, воплощаемый буржуа в третьем поколении: внуки первопроходцев рынка демонстрируют куда больше находчивости в том, как растратить доставшиеся им богатства, чем в том, как его сохранить и приумножить. М. Горький в романах «Дело Артамоновых» и «Фома Гордеев», Т. Манн в «Будденброках» все это нам показали. Особенность наших новых русских, в основном вышедших из старой партийно-комсомольской и гэбистской номенклатуры, состоит в том, что гедонистическую метаморфозу они пережили еще в советской утробе в качестве пользователей системы спецраспределителей. Поэтому в социокультурном отношении они сразу явились нам в качестве деградировавших буржуа третьего поколения, так и не приобщившихся в первопоколенческому аскетическо-героическому этосу первооткрывателей рынка.
Но может быть, на еще более скрытую тайну наших нуворишей указывает античная политическая классика в лице Платона. В своем «Государстве» он прямо-таки предусмотрел случай приватизации государственной собственности профессионалами службы безопасности, открывшими для себя более легкую роль, чем служилая доля: «А чуть только заведется у них собственная земля, дома, деньги, как сейчас же из стражей станут они хозяевами и земледельцами; из союзников остальных граждан сделаются враждебными им владыками; ненавидя сами и вызывая к себе ненависть, питая злые умыслы и их опасаясь, будут они все время жить в большем страхе перед внутренними врагами, чем перед внешними, а в таком случае и сами они, и все государство устремится к скорейшей гибели».
Платон сделал акцент на одной опасности – опасности превращения былых «стражей» в компрадорскую среду, более опасающуюся собственного народа (не признающего легитимность приватизации), чем бывших внешних противников. Но не меньшего внимания заслуживает другая опасность – заражение предпринимательской среды установками тех, кто привык к явным и скрытым привилегиям и не способен вести действительно предпринимательское существование, связанное с личным экономическим творчеством, риском и ответственностью.
Этим микробом чванливого сибаритства оказалась зараженной не только среда наших новых русских, наследующих дорыночную психологию номенклатуры, сегодня им заражена и мировая предпринимательская среда стран старого капитализма, уставшего от настоящих усилий, растерявшего потенциал фаустовской личности. Правящий слой Запада в целом ведет себя в мире как номенклатурная среда, с рождения приученная к привилегированному статусу. Вчера это был статус колониальных держав, извлекающих нерыночную сверхприбыль из своего положения мировой метрополии, сегодня – статус победителей в холодной войне, рассчитывающих на аннексии и контрибуции в постсоветском пространстве.
Мировая западная элита в целом потерпела неудачу в важнейшем из проектов европейского модерна: в проекте приобщения масс к просвещенному творчеству в ходе перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. Еще 30 лет назад под индустриальным обществом на Западе подразумевалась социально-экономическая система, в центре которой находится не промышленное предприятие, а университет. Вложения в науку, культуру и образование признавались самыми рентабельными из экономических инвестиций. В перспективе это сулило переход все большей части самодеятельного населения из нетворческого труда в материальном производстве в сферу духовного производства, становящегося массовым. Консенсус между элитой и массой надеялись укрепить на базе творческого принципа.
Однако в последние годы что-то сломалось в этом механизме формационного творческого возвышения. Можно даже сказать, что не столько творческой элите удалось перевоспитать тяготящуюся бременем монотонного труда массу, сколько массе, уставшей от усилий и переориентированной на потребительские ценности, удалось перевоспитать элиту. Или, что, может быть, исторически точнее, среди самой элиты лидерские культурные позиции заняли не те, кто самоотверженно занимались творческим трудом, а те, кто стал специализироваться в области культуры досуга, постигнув все его гедонистические потенции.
Так вместо трудовой миграции из индустриальной в постиндустриальную эру возобладала на уровне и личного, и коллективного проекта миграция из сферы труда в сферу досуга, из творческой напряженности в гедонистическую расслабленность. Вопрос о постиндустриальном обществе был решен не на путях новой творческой мобилизации людей, приглашенных к участию в массовом духовном производстве, а на путях их досуговой демобилизации. Стиль и образ жизни западного человека – а он является референтной группой для западников всего мира – стал определяться не творческим, а досуговым авангардом, распространяющим в обществе декадентско-гедонистическую мораль постмодерна. И, учитывая безусловную культурную гегемонию этого типа, мы вправе спросить себя: а как он воспитает другие социальные группы, и в частности господствующую сегодня предпринимательскую группу?