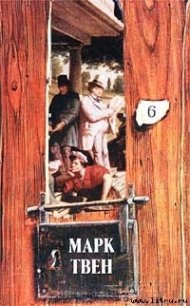Великий спор и христианская политика - Соловьев Владимир Сергеевич (читать книги онлайн без txt) 📗
Будучи величайшим бедствием для всего христианского мира, разделение церквей обнаружило свои роковые последствия прежде всего для православного Востока. Хотя, как мы видели, распространение на Востоке еретических учений и господство еретических нравов уже подготовляло и оправдывало успех великой ереси – ислама, но вместе с тем нельзя отвергать и того, что полное торжество азиатского варварства на христианском Востоке было обусловлено выделением этого Востока из общеевропейской жизни, и печальный конец Восточной империи – взятие Константинополя турками – прямо последовал за окончательным разрывом между Византией и латинством после неудачной попытки примирения на Флорентийском соборе.
Но если Византия погибла от своего обособления и одиночества, то само это политическое одиночество и обособление византийских греков коренилось в особенности их религиозного миросозерцания, в их одностороннем взгляде на христианство. Этот взгляд можно назвать вообще антиисторическим, ибо он отрицает у христианства его задачу и лишает Церковь ее социального и политического действия.
Для византийца, стоявшего твердо и упорно на предании прошлого, христианство было чем-то завершенным и поконченным, божественная истина являлась только как готовый предмет мистического созерцания, благочестивого поклонения и диалектического толкования. На это созерцание в монастырях, на это поклонение в храмах, на это толкование в богословских школах (а иногда и среди улиц) уходили все нравственные силы лучших людей. Для практической деятельности оставались одни безнравственные силы человека, этой деятельности предавались худшие люди. Между тем практическая деятельность есть необходимая составная часть правильной религиозной жизни, и Евангелие требует от нас более чем созерцания, более чем поклонения, более чем толкования истины – оно требует от нас «творить истину». К этому творению истины, к ее реализации в деле и делах должна быть направлена вся жизнь христианского общества. Но в Византии люди хотели только беречь, а не творить истину, и вся их общественная жизнь, лишенная религиозной задачи, представляла бесплодную и бесцельную игру дурных человеческих страстей. Политическое существование Византии должно было прекратиться уже потому, что оно переставало быть нужным для самой Византийской Церкви: спасаться в монастырях и хранить церковные уставы можно и под турецким владычеством. Церковь Восточная ничего существенного не потеряла с переходом власти от императоров к султанам. Относительно внутренней независимости можно даже сказать, что она выиграла от такой перемены. Иерархия этой Церкви давно уже отказалась от своей обязанности управлять христианским обществом, стоять во главе его; а с IX века она теряет даже и высшее управление собственно церковною жизнью, органом которого прежде были Вселенские соборы. С IX века не только Вселенских, но и вообще никаких значительных и самостоятельных соборов на Востоке уже более не собирается; высшею церковною властью являются «вселенские» патриархи в Константинополе, но это только тень великого имени, ибо они находятся вполне в руках светской власти, которая по произволу возводит и низвергает их, так что в действительности верховное управление Византийскою Церковью принадлежит безраздельно и всецело императорам, которым, кроме царских, нередко воздаются и архиерейские почести.
Окончательное утверждение такого византийского церковно-государственного строя, в связи с разделением церквей, было обусловлено еще и тем обстоятельством, что с IX века, т. е. после того как еретическое движение на Востоке кончилось полным торжеством православия, – на византийском престоле не являются уже более еретики, как бывало прежде, а одни только православные цари. В политической истории Православной Церкви (т. е. со стороны ее отношений к государству или к светской власти) было два роковых поворотных пункта: первый в IV веке, когда светская власть из языческой сделалась христианскою; второй в IX веке, когда эта власть, бывшая до того зачастую еретическою, становится неизменно православною. Первая из этих перемен положила начало пагубному вмешательству государства в жизнь Церкви, а вторая привела Восточную Церковь к полному подчинению светской власти. Пока эта власть бывала в руках еретических императоров и целых еретических династий, Восточная Церковь, оставаясь православною, не могла отдать себя в распоряжение таких императоров, не могла признать их своими полномочными управителями, своими архиереями ad extra, как величал себя первый византийский император. Кесари-еретики были, правда, вреднее для Церкви, нежели кесари-язычники: они не только гнали и мучили православных, как те, но еще и вторгались во внутреннюю жизнь Церкви; сочиняли ложные символы веры (как Констанций), обманчивые изложения догматов (как Зенона, Ираклия, Константа); они собирали еретические соборы и наполняли епископские кафедры еретиками. Но чем пагубнее было их действие для Церкви, тем сильнейшее противодействие вызывали они в православной среде. Поднимались ревнители правой веры, являлись мученики и исповедники, против императоров-еретиков искали помощи у православных и независимых пап, созывались православные соборы, государственный деспотизм получал могучий отпор, а Церковь – новую славу. В такую эпоху, когда для Церкви подчинение светскому правительству могло означать подчинение ереси, духовная власть должна была быть независимой, чтобы быть православной. Но как только исчезла опасность ереси, так вместе с нею исчезла и потребность независимости в Восточной Церкви. Правоверные императоры уже не могли встретить в Церкви никакого противодействия, как бы деспотично они ею ни распоряжались. Интерес «благочестия» был обеспечен, а до всего остального византийцу не было дела. Но это нехристианское, древневосточное равнодушие ко всему человеческому, кроме благочестия, получило свое возмездие не только снаружи – в турецком завоевании, но и внутри – в искажении самого благочестия.
Византийское благочестие забыло, что истинный Бог есть Бог живых, и стало искать живого между мертвыми. Святыня, полученная нами чрез религиозное предание, – священное прошедшее христианства – тогда лишь может быть живою основою Вселенской Церкви, когда оно не отделяется от настоящей действительности и задач будущего. Эта святыня, это священное предание должно быть постоянною опорою современности, залогом и зачатком грядущего. В этом его жизненная сила. Тогда только и вековечные формы преданной нам святыни воплощаются в живом и бесконечном содержании. Тогда эта святыня не только хранится нами как что-то конченное и, следовательно, конечное, но и живет в нас, и мы живем ею, действует в нас, и мы действуем ею.
Церковь как вселенская или всемирная может быть и реализована только всемирною историею. Образующие начала Церкви (иерархия, догмат, таинства), сообщенные нам чрез предание, но по существу своему бесконечные, находят подлинное, соответствующее себе выражение и воплощение, – вполне реализуются или осуществляются, – лишь в целой жизни всего человечества во всей совокупности времен и народов. Поэтому святыню предания отнюдь не должно брать как нечто завершенное для нас, в отдельности от настоящей и будущей жизни мира. Отделенная от своей живой становящейся формы, почитаемая только в тех своих выражениях, которые уже стали, святыня Церкви необходимо теряет свою бесконечность, облекается и связывается ограниченными и мертвыми формами: ограниченными, потому что завершенная святыня завершилась когда-нибудь и где-нибудь в известных границах времени и места, – мертвыми, потому что завершенное где-нибудь и когда-нибудь тем самым отделяется от жизни, продолжающейся везде и всегда.
Когда совершенство Церкви полагается не впереди ее, а переносится, как это было в Византии, назад, в прошедшее, и это прошедшее принимается не за основу, а за вершину церковного здания, – тогда непременно случается, что существенные требования и условия религиозной жизни, которые должны исполняться всеми и всегда, приурочиваются исключительно к отдельным своим историческим выражениям, к формам, уже пережитым Церковью и тяготеющим над живым сознанием в виде внешнего факта. Существенное и вечное в церковной форме смешивается здесь с случайным и преходящим, и самый поток церковного предания, загражденный мертвящим буквализмом, уже не является в своем вселенском бесконечном просторе, но скрывается за частными особенностями временных и местных уставов.