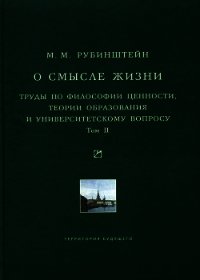Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры - Шпет Густав Густавович (читать книги полностью без сокращений txt) 📗
Что же означают теперь «невыявленные» поэтические способности или потенции? Если под этим понимают, что некий Н. не мог напечатать своих стихов, но читал их своим друзьям, то социально он все-таки был, он поэтически объективировал себя, и, может быть, продолжает быть в близком ему коллективе. Если же это значит, что он никогда и ни в чем этой своей потенции не проявил, то это надо понимать, как сказано, в том смысле, что такого поэтического субъекта не существует, и не существовало. Однако, скажут, может случиться, что его поэтическая «потенция» все же выразилась, но не в поэзии, а, например, в таких-то особенностях оставленного им научного исследования, подобно тому, как в лирическом ямбе может прозвучать для нас политическое негодование автора, и тем приоткрыть в нем политическую субъективность и т.п. Но это и есть переход к другой ипостаси Н. Пока мы изучали его исследование, мы имели перед со
бою объективированного субъекта, но, в порядке социальном, субъекта научного; нужно покинуть последнего, смотреть на поэтическую объективацию, и мы найдем другого субъекта; точно так же, далее, может последовать целая вереница их — за длинным рядом объективации разного социального порядка, разных социальных категорий: поэт, натуралист, царедворец, администратор и т.д. Однако во всех этих ипостасях - одно социальное существо, один социальный субъект? Несомненно! Но мы забыли за всеми этими рассуждениями, что ведь исходили мы от вопроса о субъективности экспрессивно го выражения в слове или в произведении труда и творчества вообще. Мы в них искали субъективности, и нашли, что она привносится к объективному идейному содержанию и формам названных «сообщений» как особая субъективная окраска их, как их субъективация. А затем нашли и то, что эта субъективация и субъективность в этих же сообщениях, в некоторых их «признаках», объективированы благодаря особому посредству, благодаря тому, что всякое осуществление требует, кроме осуществляемого, еще и осуществителя. Последний оказался sui generis социальною вещью, и то, к чему мы пришли, есть уже рассмотрение самой этой вещи, как объекта среди других объектов вообще, а не как субъекта, в качестве специфического объекта, субъективировавшего данное «сообщение».
Переход, который, таким образом, нами совершен, прост и натурален. Но также должно быть просто и то, что этот переход есть переход от субъективности произведения к объективности его творца. Пока субъект чувствовался, симпатически или конгениально постигался, улавливался в экспрессии слова, он был субъектом его, но лишь только он стал предметом анализа, рассуждения и прочего, он и остается предметом, объективным содержанием новой установки. Пусть мы сказали только, что в данной экспрессии мы видим больше, чем мгновенную нежность поэта, мы уже говорим о социальной вещи, как объекте, о поэте, который обладает не только нежностью, не только мгновенною и т.д. Мы услыхали в этой нежности искренность его любви или манеру литературной школы, или еще что, - и останавливаем на этом свой анализирующий вопрос, и мы тем самым вышли из созерцания или слушания данного произведения. Мы — в нем, пока мы его воспринимаем как поэтическое произведение, мы вне его, когда интересуемся другою социально-культурною или при-родною вещью, будет ли то наша забота о завтрашнем дне, тревога о неоплаченном счете, решение математической задачи или интерес к автору только что читанной и только что отброшенной в мысли поэмы. Разница интереса к «автору» от прочих интересов может казаться более «естественной», «необходимой», но принципиально она од
ного порядка с самым неестественным и случайным: установка внимания перешла из сферы художественной в сферу иную. Сфера автора, как социального феномена, есть его жизнь, биография. Если переход от художественного восприятия поэмы к житейскому или научному интересу, возбуждаемому автором, есть переход от одной установки к принципиально иной, то переход от «поэта» к «человеку», от субъекта данной объективации к нему же в других его объектива-циях, к полному его облику, как объективного социального феномена, уже совершается в одной принципиальной установке. Так же точно, в той же предметной установке, идет и дальше интерес к его среде, социальным условиям, исторической обстановке и т.д.
Сколько это относится к субъекту и к тем формообразующим началам содержания, которые характеризуются натуралистически, как его способности, потенции, одаренность, талант и т.п., и которые социально развиваются в его техническую сноровку, уменье, искусность, столько же все это относится и к самому содержанию как такому, к его материальному составу и качеству этого состава. Это содержание считается субъективным в силу того соображения, что оно есть обладание и достояние самого субъекта. Но нужно выделить два оттенка в значении понятия «обладание»: первый, когда обладание означает владение чем-нибудь в смысле постоянной возможности им пользоваться, соответствующее же содержание есть объект пользования, но не как часть субъекта им владеющего, не как его орган, и тем более не как его функция, а только как материал, и второй, когда обладание означает неотъемлемую принадлежность, некоторую органическую часть обладателя, его орган и даже функцию, часть, которая вследствие этого, становится признаком и знаком субъекта, так что без такого признака он делается ущербным или даже вовсе перестает быть собою. Когда в установлении субъективности мы говорили о знаках экспрессии, как принадлежности субъекта, мы имели в виду второй оттенок; вышеприведенные соображения о субъективности состава содержания, принадлежащего субъекту, исходят из первого представления. Содержание субъекта, богатое или ограниченное, возвышенное или мещанское, шекспировское или китайское, отнюдь не есть субъективность в таком же смысле, как отношение соответствующего субъекта ко всякому содержанию и, в первую очередь, к своему собственному впадению. Здесь верно только то, что запас содержания субъекта и отношение субъекта к этому содержанию тесно связаны, именно потому, что все это содержание прошло через «голову» субъекта. Но ясно, что сходное содержание может вызвать разное отношение к себе со стороны мещанина и рыцаря, циника и романтика, как и разное содержание может вызвать к себе сходное отношение со стороны китайца и ев
ропейца. Запас «содержания», его объем и качество, не есть субъективность в смысле признака и принадлежности, как характеристика субъекта как такого, а есть характеристика его как социального объекта, обусловленного социальным целым, зависимого от него и ограниченного им. Правильнее и осторожнее здесь было бы говорить о социально-культурной относительности самого субъекта, как специфического объекта, отнюдь не определимой по экспрессии его слова, а устанавливаемой объективно на основании объективных данных биографии лица, материальной, бытовой и культурной истории коллектива и т.д., как уже было сказано208.
При всяком переходе от экспрессии, как объективированной субъективности, к субъекту, как «автору», в смысле самостоятельной социальной и исторической веши, понятие субъекта настолько «обогащается» по сравнению с натуралистическими его определениями, что это должно служить предостережением против всякой попытки внести натурализм в изучение социального предмета. Тем более что, как указывалось, социальная установка на субъекта, как предмет изучения, вызывает метаморфозу (стр. 477) и в натуралистическом подходе, превращая, в частности, психологию в социальную психологию. Дело в том, что, когда мы приходим к установлению субъекта, как объекта социального, как социальной вещи, то последняя тем самым дана нам, как дается всякий социальный феномен, т.е. мы видим перед собою не только посредника, осуществляющего идею и в осуществляемом объективирующего себя, но также, как во всяком социальном феномене, реализацию некоторой идеи. Лицо субъекта выступает как некоторого рода репрезентант, представитель, «иллюстрация», знак общего смыслового содержания, слово (в его широчайшем символическом смысле архетипа всякого социально-культурного явления) со своим смыслом (Цезарь — знак, «слово», символ и репрезентант цезаризма, Ленин - коммунизма и т.п.). Если субъект, как такое слово, в своем смысле, изучается по продуктам своего творчества, то такое изучение есть изучение объективного содержания, смысла соответствующей продукции. Экспрессия его собственных слов, его творчества, здесь - не источник, так как ее определение - всецело субъективно. И мы теперь легко можем убедиться также в многократности субъекта, которая вытекает из того, что субъект, как репрезентант, репрезентирует и себя лично в целом, и свой класс, и свой народ и тд. И если в каждой своей ипостаси субъект обнаруживает также отношение к людям и вещам, то, поскольку это отражается в экспрессии его творчества и поведения, объективации себя, экспрессия - действительный источник изучения субъекта, как субъекта.