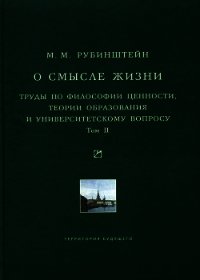Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры - Шпет Густав Густавович (читать книги полностью без сокращений txt) 📗
экспрессивности самого же слова. Обратно, экспрессия всегда субъективна, характерна и лична - от самого малого мимолетного и до самого устойчивого, от каприза или взволнованности момента до постоянства не только лица и ближайшей его среды, но и эпохи, народа, культуры (например, когда говорим о культуре «восточной» и «европейской»). Одно только надо помнить и соблюдать как основной методологический принцип: субъективное в слове, как его экспрессия, не есть смысл слова и не есть какая-либо конститутивная форма этого смысла, а лишь характер и признак, присущие внешним, чувственно данным формам слова, и указывающие на особое, не объективно смысловое, содержание слова. Это содержание есть объективированная субъективность, которая не улавливается пониманием сообщаемого, не мыслится в слове, а лишь чувствуется, как присутствие и характеристика субъекта. Нужны другие особые высказывания и сообщения, чтобы перевести это содержание в понимаемые, мыслимые слова, термины и «образы», словом, чтобы это содержание сделалось также объективным смысловым содержанием, научным, поэтическим или риторическим.
Субъективность и формы экспрессии
Если теперь обратимся к тому, что было сказано выше об отборе элементов содержания в образовании понятий и тропов, мы вспомним, что кажущаяся свобода и субъективность такого отбора были в действительности прочно связаны предметом или квази-предметом, о котором нужно было сообщить научное сведение или по поводу которого нужно было вызвать поэтическое впечатление. Но если мы все же говорим здесь хотя бы о кажущейся свободе и субъективности, то в чем их подлинный источник? Конечно, не в воображаемом предмете, как он передается в понятиях и тропах, и не в объективных актах мышления, фантазии, представления, а лишь в фундированных на них «вещных» актах субъекта, экспрессивно объективируемых. Формальный алгоритм понятия или тропа может не всегда с достаточною прозрачностью обнаружить свое конечное разумное оправдание, но зато он теряет свою рассудочную сухость, когда он оживляется пристрастием субъекта, прежде всего, к предмету и сообщаемому или изображаемому объективному содержанию, а затем также и к избранной форме, к изобретенному им методу, или таким же пристрастием (иронией, презрением и т.п.) к отвергаемым и заподозренным приемам и содержанию логической мысли или поэтического творчества. В читаемой по
тетрадке лекции профессора субъективны не формы изложения, не смысл излагаемого и не так называемые предметно-интенциональные акты его переживаний, а сопровождающая их его скука, утомленность и пр., как в пламенной импровизации демагога все его самообманы и обманы субъективны только в сопровождающей их убедительности, а не в формах связывания сообщаемого. Убедительность и убеждение — никогда не адекватны точности термина или изобразительности тропа, но они адекватны силе и характеру экспрессивности слова. Равным образом, чувство точности, научности или изобразительности, стильности и прочего должно отличать от объективных форм и законов логических понятий и поэтических тропов.
Здесь необходимо глубже войти в эту, хотя не трудную, но несколько запутанную область объектно-субъектных предметных взаимоотношений. — В итоге изложенного может показаться, что, невзирая на сделанную выше (стр. 477) декларацию, мы все же обеднили понятие субъективности и лишили проблему субъекта того богатства, которое вкладывается в нее натуралистическим определением. Нам могут сказать, что и в сфере предметных актов, как устанавливающих, так и представляющих, можно констатировать субъективность, и притом в вышеопределенном смысле содержания, исходящего от самого субъекта, как такого. Правда, предметное содержание, как такое, остается от субъекта независимым, но зато состав его, прошедший через сознание субъекта, через его «голову» и «руки», им отобранный, ставший его достоянием, густо окрашен в цвет субъективности. Здесь также можно видеть подлинную объективацию субъекта и даже его и от него исходящие границы, т.е. некоторые формы. Может быть, он объективировался в том или ином случае не полностью, но наверное можно сказать, что в составе данного содержания не может быть больше того, что потенциально, - сознательно или сублиминально, - содержится в самом субъекте. Это содержание по составу есть простой запас представлений, теорий, положений, предпосылок и предрассудков, и он — иной у пастуха и астронома, буржуа и аристократа, китайца и афинянина, Писарева и Достоевского, — в такой же мере, как иные у них личные отношения к вещам и идеям. И далее, поскольку мы здесь говорим о степенях, границах, мере и т.п. этого содержания, мы тем самым допускаем для него особые субъективные формирования и формы. При этом нетрудно доказать, что такие формы обусловливаются не только психологическими, антропологическими и расово-биологическими причинами, но, как того требует определение, и чисто социальными. Так называемая техника в труде и творчестве, как степень уменья, сноровки, искусности, предполагает свою естественную обусловленность в виде физической силы, душевной склонности, расового предрас
положения, наследственности и т.п., но она же предполагает и социальную обусловленность, в которой естественные данные и задатки проявляют свою силу и свое направление, обусловленность общим уровнем культуры и социальной организации, выучки, традиции, школы и т.д. Такая техника также есть своего рода формообразующая сила, и ее можно рассматривать как средства и способы объективации себя субъектом и, следовательно, как его собственное обладание и достояние.
Хотя подобного рода аргументация прямо апеллирует к определению субъекта, как социального субъекта, все-таки вся она построена на предпосылках натуралистической методологии, и имеет в виду субъекта не как субъекта, не как специфический объект среди «естественных» объектов, а как объект одного с ними порядка. Это — видно из той роли, которую здесь играют понятия причины, условий, обусловленности и т.п., которым мы всюду противопоставляем методы и приемы анализа структуры, критики, интерпретации. Мы хотим вычитать в слове, как и во всяком культурно-социальном феномене, все, что в нем заключено, как средстве и знаке человеческого общения. Для социального глаза, с его «точки зрения», ничего субъективного, что себя не объективировало бы, просто-напросто не существует. Никакого обеднения или ограбления субъекта здесь нет, раз вне социальной данности и признанное™ его как субъекта вообще и вовсе быть не может, сколько бы ни существовало объектов под названием «animal», «homo», «антролос», «психе», «этнос» и т.д. Для социальной точки зрения эти «вещи», как субъекты, не даны, и они для нее - не вещи («социальные вещи»), а вещи в себе («социальные вещи в себе»), и не в смысле запредельных, скрытых, оккультно-трансцендентных «условий», «причин», «субстанций» и прочего, а в категорическом смысле фикций и недисциплинированно измышляемых головоломок. И это наше утверждение — не своего рода социальный феноменализм, а подлинный социальный реализм.
Действительно, мы утверждаем, что субъект, как социальный субъект, полностью выражается, объективируется, в продуктах своего труда и творчества, и во всех, следовательно, таких актах, которые подобным же образом материально запечатлеваются, и только в силу этого признаются, узнаются, наименовываются и прочее, вообще социально существуют. «Выражение», как объективацию, надо понимать, при этом, возможно широко, так, чтобы считать ее средствами и способами не только положительные знаки, но, например, и отсутствие тех или иных знаков, введение одних на место других, как в порядке замещения, так и в порядке скрывания их и т.д. Действительное раскрытие субъективности в объективированных субъектом
«знаках» достигается из анализа их совокупности, так что каждый «отдельный» знак должен быть включен в некоторое целое как его член. И только непрерывно восходя от низших единств к все более высоким, мы захватываем субъекта во все большей его полноте. Наивно было бы думать, что поэтическая субъективность поэта может быть полностью объективирована, и обратно, вскрыта в данном его произведении или в группе их. Полностью субъект-поэт объективирован лишь в полноте своего поэтического творчества, в «полном собрании сочинений», какового на практике не бывает. Но зато вне своих произведений поэт и не существует, как поэт. Замечанья вроде того, что не все, что он мог бы сказать, им сказано, что многие его мысли, чувства, остались от нас скрытыми за его вынужденным молчанием, за его смертью и т.п., имеют в виду или натуралистический подход к делу, или выходят за пределы данного субъекта, как поэта, и имеют в виду иные его социальные ипостаси. Сама смерть, раз она фигурирует в качестве аргумента, имеет разное значение применительно к антропологическому индивиду и социальному субъекту: физическая смерть первого еще не означает смерти его как социального субъекта. Последний живет, пока не исчезло какое бы то ни было свидетельство его творчества. Поэтому, и обратно, можно сказать, что и в каждом своем «отдельном» произведении субъект дан целиком, но только субъект данного момента. Субъект данного момента, и это надо подчеркнуть, значит данного произведения. В другом произведении он -другой, и, в то же время, в обоих - один и т.д., и т.д. Не стану повторять, а лишь напомню, что под социальным субъектом разумеется, как субъект любого момента, любого отрезка времени, и любой совокупности объективации, так и любой структуры: личности, класса, народа, школы, направления, течения и т.д.