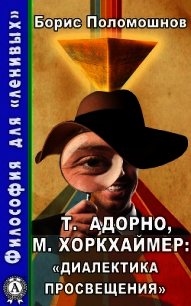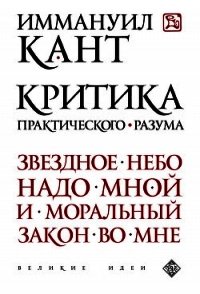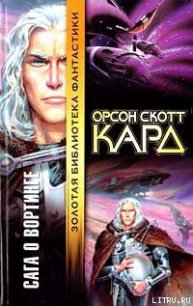Век просвещения и критика способности суждения. Д. Дидро и И. Кант - Библер Владимир Соломонович (читать полную версию книги TXT) 📗
И это новый этап игры.
Только в интерьере просвещенного вкуса (в сознании человека Просвещения) прекрасный предмет имеет форму целесообразности, сам п себе этот предмет не может быть ни целью, ни средством. Но только в форме внешнего прекрасного предмета человек находит ту форму, в котором может осуществляться его человеческая самоцельность, находит ту фиксированную точку, в которой его деятельность (познания и желания) замыкается на себя, на общение с собой.
<Одна лишь форма целесообразности в представлении, посредство которого нам дается предмет, может, поскольку мы ее сознаем, составит удовольствие, которое мы без [посредства] понятия рассматриваем как обладающее всеобщей сообщаемостью, стало быть, может составить определяющее основание суждения вкуса> [40].
Кант в этом смысле отнюдь не формалист (хотя такое толковании обычно). Да, в прекрасном предмете для просвещенного вкуса существенно исключительно форма (фигура — Gestalt, или игра; игра фигур в живопись или игра ощущений — в музыке). Но форма эта беспредметна лишь в то смысле, что ее <предметом>, ее содержанием оказывается саморазвитие человеческих способностей познания, желания и, главное, личного общения.
Но, возможно, самое существенное для понимания сверхзадачи кантовского <формализма> — учет исторического контекста. Этот <формализм> — <обратное общее место> содержательных определений культур Просвещения.
Форма целесообразности (без цели) возбуждает и удовлетворяет просвещенный вкус только на фоне очень жестких и очень рационализированных целей, преодолеваемых (преобразуемых) глазом умного зритель перед <полотном художника> (здесь <полотно художника> — понятие нарицательное).
Предельная, — литературно сюжетная, сентиментальная нагруженность содержания картин XVIII в. (нагруженность внеэстетическая — иллюзией предметности, нравственными нормами, рассудочными максимами, социальными идеями…) — необходимое условие для того, чтобы могла сформироваться <эстетическое суждение рефлексии>.
Это — суждение, продиктованное стремлением к <целесообразно форме>. Но целесообразная форма и особенно <игра форм> удовлетворяю просвещенный вкус (доставляют эстетическое удовольствие), только если моем суждении осуществляется преобразование содержания в форму, если в этом суждении есть тот плотный, культурный, содержательный материал, который пережигается в форму саморазвития познавательных способностей.
Накал костра зависит от культуры (потенциальной энергии) пережигаемого материала.
Для такого костра — мы это знаем — хорош, к примеру, Буше, или Грез, или Фальконе (если вернуться к <Салонам>).
Но лучше всего — Шарден.
Четкость композиции, внутренние, сознательно построенные рефлексы чувства и разума, природы и классицизма самовозжигают огонь просвещенного вкуса. Этот огонь не может не загореться, он — жертвен по замыслу. Картины Буше и Греза могут удовлетворить и варварский вкус, хотя, чтобы их эстетически расшевелить, особенно необходим глаз знатока.
Шарден напрочь запечатан для варварского вкуса.
(Примерно таков смысл той оценки, которую дает Дидро <Атрибута искусства> Шардена…)
Если картины, или симфонии, или идеи не несут в себе внеэстетической культурной нагрузки, если они не будут воинственно содержательны, идейно нацелены, то нечего будет пережигать, тогда просвещенный вкус не выйдет к наслаждению чистой игрой форм, фигур, мелодий.
Но все сказанное — лишь одна сторона дела.
Сейчас пора подчеркнуть другой момент.
В игре познавательных способностей (рассудок — воображение) нет согласно Канту — полной симметрии.
Перекос здесь в сторону воображения.
Форма целесообразности возникает не на полотне и не в- пусть расплавленных — понятиях рассудка, но только в воображении зрителя ил слушателя. Именно в воображении просвещенный вкус замыкается <на себя>.
<Воображение умеет… накладывать один образ на другой и через конгруэнтность многих образов одного и того же рода> получать нечто многообразное, но — единое; цельное, но — динамичное, внутренне неуравновешенное, выходящее за собственные пределы. Нечто? Что это такое? Образ, понятие, впечатление? Это нечто среднее между образом и понятием, взято как возможность новых (бесчисленных) образов и понятий [41].
Среднее — в смысле центральное, изначальное, но не <усредненное>.
Здесь нельзя отделаться усреднением.
Воображение достигает своих целей <путем динамического эффекта, который возникает из многократного схватывания… фигур органом внутреннего чувства>.
Диктует в этом процессе <норма красоты>, но в необычном, странно понимании <нормы>. Не как <идеальная форма>, по которой следует равнят произведения искусства, но как форма (мера) превращения форм, их взаиморождения, их недовольства своей собственной законченностью. Это способ (может быть, точнее, способность) развертывания бесконечной спирали прекрасных форм.
Предвидеть <нормы> означает находить в каждой прекрасной форме ту точку, в которой эта форма переливается в другую, оказывается подчиненной закону метаморфоз, закону Протея.
Норма — это образ (созданный воображением), не могущий уместиться в образе и… переливающийся в разумное <понятие>.
Перекос (игры познавательных способностей) в сторону воображени исчезает.
Воображение расплавляет рассудок, чтобы образовать форму целесообразности (без цели…), но форма целесообразности как раз в точке предельного формализма — в игре форм — перестает быть формой, выходит бесформенное, разрывает любой художественный образ, становится предвидением новой идеи разума (становится созерцанием новой эстетическо идеи).
(Читатель помнит, наверное, что пока я говорю о <предвидении> иде разума не как о цели рефлективных эстетических суждений, но как о невольном итоге деятельности суждения (в сфере эстетики).)
Таким образом Кант схематизировал в антиномию (форма целесообразного без цели) еще один парадокс Дидро. Тот парадокс, в котором наиболее идеальная форма (античная норма) граничит с идеей бесформенного, парадокс, означающий трудность — и необходимость — воспринять ка эстетический образ…. звездное небо.
Но о звездном небе в <Критике…> Канта немного дальше.
Итак, напомню — дефиниция прекрасного, вытекающего из третьего момента (по отношению): <красота — это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без представления о цели> [42]. г) Последнее определение просвещенного вкуса возникает как осмысление всех предыдущих дефиниций.
Просвещенный вкус наслаждается свободной закономерностью воображения, необходимостью — для всех! — моего вкусового произвола. <Воображение свободно и тем не менее само собой закономерно>. Это определение противоречиво, <заключает в себя антиномию>
Вкус свободен от интереса, но интерес ему необходим для того, чтоб быть преодоленным.
Вкус свободен от понятия, но рассудочное понятие ему необходимо как предмет преодоления.
Вкус свободен от целей, но цель необходима, чтобы преобразовать ее чистую <форму целесообразности>.
Но в чем же все‑таки состоит непосредственная цель (или скажем, п Канту, <форма целесообразности>) всех этих разрушительных опустошений?
Это — пафос общения в его предельной формализации, это — общение, для которого не нужен человек, с которым я общаюсь, это — сворачивание всех внешних форм общения в ячейку общений с самим собо (вспомним Дидро).
Если восстановить всю аналитику прекрасного в целом, то можно сказать, что смысл всех стремлений вкуса — к неопределенным понятиям, целесообразности без цели, к незаинтересованности интереса — состоит одном — достигнуть свободного общения.