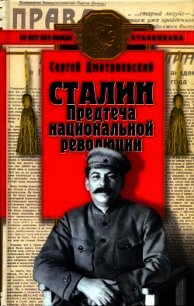Национал-большевизм - Устрялов Николай Васильевич (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
Павел Пестель, бывший адъютант графа Воронцова, полковник Вятского пехотного полка, был центральной фигурой декабризма.
Он идеолог, он и практик. Он пишет «Русскую Правду», т. е. будущую конституцию российской республики, — и он же руководит подготовкой восстания, вербует заговорщиков и вдохновляет тайное общество. Без него все распадается, лезет по швам.
«Он не только самовластно управлял Южным обществом, — характеризует его следственная комиссия, — но имел решительное влияние и на дела Северного. Он господствовал над сочленами своими, обворожал их обширными познаниями и увлекал силой слова к преступным намерениям его разрушить существующий образ правления, ниспровергнуть престол и лишить жизни августейших особ императорского дома. Словом, он был главой общества и первейшей пружиной всех его действий».
Таким рисуется полковник Пестель и по другим документам Декабря. Это человек ясного сознания и железной воли. Это человек незаурядный. Пушкин после свидания с ним в Кишиневе в 1821 г. недаром категорически констатирует:
— Умный человек во всем смысле этого слова… Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю…
Он знает, на что и куда идет. Среди декабристского общества это остров твердой земли среди голубого романтического тумана. У него есть план и цель. Обдуманы у него и средства.
Цель — процветание, величие родины. Пестель прежде всего русский патриот. «Настоящая моя история, — пишет он в тюрьме в тягостном ожидании приговора и смерти — заключается в двух словах: я страстно люблю мое отечество, и желал его счастия с энтузиазмом»…
Пестель — суровый и жестокий государственник. Он любит родину в образе великого государства. В отличие от конституционного проекта Никиты Муравьева, «Русская Правда» глубоко проникнута инстинктом и разумом великодержавия. Пестель понимает, что текущая эпоха — эпоха великих государств. Россию он мыслит мощной державой, построенной на фундаменте разумного централизма. Он отвергает муравьевскую тенденцию федерализации, опасаясь, что при ней «любовь к отечеству будет ограничиваться любовью к одной своей области»… Проект Муравьева грозит воскресить удельную систему, и в «Русской Правде» самая мысль о расчленении государства «отвергается совершенно, яко пагубнейший вред и величайшее зло». Можно вообще сказать, что если Муравьев был «жирондистом декабризма», то Пестель — его несомненный и последовательный якобинец.
Великая Россия может и должна быть только республикой. Южное Общество решительно настаивало на этом. «Я вспомнил блаженные времена Греции, когда она состояла из республик, и жалостное ее положение потом. Я сравнивал величественную славу Рима во дни республики с плачевным ее уделом под правлением императоров. История Великого Новгорода меня также утверждала в республиканском образе мыслей».
Республика, таким образом, рисуется надежным условием государственного благоденствия и величия.
Республика Пестеля достаточно радикальна. В ней отрицаются сословия, провозглашается полное равенство граждан перед законом, решительно отвергается характерный для конституционного проекта Муравьева цензовый принцип: «Сия ужасная аристокрация богатств — отзывается Пестель о муравьевской идеологии, — заставила многих, и в том числе и меня, противу его конституции сильно спорить». Пестель — на левом фланге декабризма.
Но мало того. В государстве «Русской Правды» слышатся, пусть еще отдаленные, мотивы «государственного социализма». Государство играет руководящую роль в деле распределения земель. Значительная их доля не уходит в руки частных собственников, а остается в распоряжении самого государства. Эта черта позволила Герцену в свое время заявить, что Пестель «был социалистом раньше, чем появился социализм». Герцен, конечно, тут увлекался, смешивая этатизм с социализмом, — но это уже тонкости, детали… И разве один Герцен у нас повинен в таком увлечении и смешении?..
«Если собрать воедино черты государства Пестеля, — пишет известный исследователь декабризма проф. Довнар-Запольский, — то они распадутся на основные три типа: государство античного мира, государство социалистическое и государство наполеоновского режима».
Если оценивать все это под знаком протекшего столетия, нельзя не признать, что в Пестеле, как явлении русской политической жизни, было немало пророческого…
Жестокий, волевой характер. Пестель шел к свей цели упорно и упрямо, не останавливаясь на выборе средств. По свидетельствам окружающих, он отличался «математическим умом и математической убежденностью». Он умел руководиться холодным расчетом. Он «никогда ничем не увлекался» — характеризует его Якушкин.
Единственный из декабристов, он понимал, что нельзя делать революцию в белых перчатках — особенно в России. Он сознавал, что нелепы мечты сразу перевести русский народ с железной узды самодержавия на зеленое пастбище мирного демократизма. Он отдавал себе четкий отчет в технике переворота. Он не слишком надеялся на непосредственную самодеятельность масс и огромное значение придавал наличию твердого авторитетного руководства.
«Сама по себе масса есть ничто, — говорил он в интимной беседе Поджио, — она будет тем, что сделают с нею индивидуумы, в которых основа всего». Центр тяжести — в умелом, умном, энергичном руководстве.
Отсюда и основное разногласие в тактике с Муравьевым. Как и большинство декабристов, Муравьев был сторонником правоверно демократического образа действий. Выработав проект конституции, он считал, что необходимо немедленно же после переворота поставить его на всенародное обсуждение и вручить его судьбу решению всенародного собора. Это путь, который теперь мы назвали бы путем «формальной демократии».
Пестель защищал радикально иную точку зрения. Он не сомневался в практической бесплодности и даже вредности благодушных рецептов Муравьева. Он горячо спорил с «учредиловцами» своего времени и своей среды.
Он крепко отстаивал мысль, что основные необходимые реформы нужно проводить не через формальную процедуру «всенародного» обсуждения и утверждения, а через диктатуру Верховного Управления. Он доказывал, что конституционные начала, до времени оставаясь тайной инициативной группы, не должны быть обнародованы, во избежание сутолоки и никчемных словопрений. Он считал, что правление Общества должно сперва устранить членов императорской фамилии и объявить себя через приведенные к покорности Синод и Сенат Верховным Правительством, облеченным неограниченной властью, и раздать важнейшие должности своим сторонникам.
Залог успеха Пестель усматривал в принципе диктатуры, а не в формах формального народоправства. Народоправство придет потом, утвердится посредством диктаториальной власти Верховного Управления. «Временное Верховное Управление обязано новый государственный порядок, Русскою Правдой определенный, постепенными мероприятиями ввести и устроить, а народ обязан сему введению не только не противиться, но, напротив того, Временному Верховному Правлению усердно всеми силами содействовать и неуместным нетерпением не вредить преуспеванию народного возрождения и государственного преобразования». Пестель надеялся, что Верховному Управлению удалось бы осуществить необходимые реформы приблизительно в десятилетний промежуток времени. Но трудно сомневаться, что произойди тут «ошибка в темпе» — он все равно продолжал бы твердо стоять на основной своей позиции…
Если по своему темпераменту, по психологическому складу своему, Муравьев был «меньшевиком» декабризма, то Пестель — его несомненный и ярко выраженный большевик.
Его резкие суждения, его прямолинейная суровость в средствах, его авторитарные концепции и диктаторские повадки — зачастую смущали его вольных и невольных сотоварищей. Несмотря на всю силу его влияния в Обществе, многие члены чуждались его, почти никто его не любил. И, уж конечно, никто как следует не понимал его.
«Полковник Пестель, — показывает Басаргин, — имел тогда сильное влияние в обществе нашем, хотя и в то время мы говорили, что он мыслит слишком вольно. Весьма часто в некоторых, даже ничтожных разговорах нам казалось, что Пестель рассуждает несправедливо, но, не желая с ним спорить, мы оставляли его при его мнении, а говорили без него о сем между собою». Он покорял математической логикой мысли, но вместе с тем и устрашал ею.