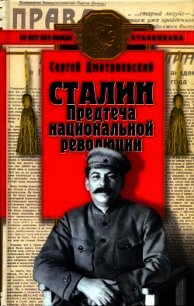Национал-большевизм - Устрялов Николай Васильевич (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
Велика истина любви и непререкаем ее закон. Но бесконечно тернист и длинен путь ее воплощения в собирательную жизнь людей. Счастлив тот, кому открылось солнце, чья душа зацвела от его лучей. Но ведь пещера этим еще не устранена, и не сняты оковы с узников… И недостаточно им «лишь захотеть», чтобы пали оковы, как недостаточно еще понять добро, чтобы воплотить его в себе.
Быть может, это ужасно и тяжело, что жизнь безмерно сложнее гениальной простоты великого русского моралиста. Но тем не менее это так. Это так же верно, как то, что Толстой, как человек, как творец и художник, не умещается, бесконечно не умещается в рамки Толстого-моралиста.
В кризисе духовного самоуглубления он познал правду «в ее бытии», в ее «идее», как сказали бы философы. Но ему осталась чужда правда «в ее становлении», в развитии. Толстой не хочет знать истории. Это — один из самых неисторических, даже антиисторических умов человечества. Он не хочет видеть, что «все прекрасное столь же редко, сколь трудно» (Спиноза), что оно достигается не сразу. Реальная сила зла для него словно не существует, и поэтому во всем, что не вмещает в себя добра целиком, «теперь же и здесь же», — он усматривает лишь грех, отрицание, слепоту.
Он фанатически требователен, даже жесток в своем идеале любви, и бесконечно строг к жизни, этот идеал ограничивающей.
«Не противься злу насилием» — сказало ему высшее откровение, и с тех пор всякое принуждение в его глазах стало безусловно греховным. И так как социальная жизнь человечества строится на начале принудительном (право, государство), он не останавливается перед тем, чтобы отвергнуть все древо человеческой культуры.
«Не надо подчиняться государству, не надо идти на войну, не нужно судов, даже науки, искусства не надо»… Уподобиться полевым лилиям, отдаться закону всеобщей любви. Все люди — братья. Не нужно власти. Не нужно повеления и повиновения.
Эти заповеди — дети высшей правды, как она воспринята великим моралистом. Но во всей своей чистоте брошенные в мир как действенные призывы, они встречаются с другими заповедями, заветами той же правды, но только воплощающейся во времени. И, встретившись, бледнеют, бессильные себя оправдать в сфере несовершенной, но совершенствующейся жизни.
В самом деле. Отрицание права во имя нравственного совершенства ведет в жизни не к торжеству безусловного добра, а к утрате и тех относительных нравственных достижений, которые воплощаются в праве. Отрицание государства приводит не к царству Божию, а скорее к анархии тьмы, войне всех против всех. Отрицание культуры влечет за собою не блаженную невинность полевых лилий, а лишь всеобщее огрубение, косность души и еще большую прикованность ее к пещере теней и призраков. И это не случайно, конечно, что в своем отрицании культуры Толстой является самым мощным порождением всемирной культуры и был бы немыслим вне ее преемственного развития и роста. — Так мстит за себя отвергаемая правда земли.
Это — глубочайшая трагедия земного существования. В здешней жизни людей бывает слишком часто, что призыв к немедленному осуществлению предельной правды Божией нарушает самую эту правду в ее естественном и нормальном, объективном, жизненном воплощении. Люди «града вышнего», подвижники и святые, всегда идут впереди своего века, жизнью своею нарушая его закон. Для мира, лежащего во зле, такие люди — лучшее оправдание и украшение. Но подчас они уже слишком резко расходятся с ним, слишком резко себя ему противопоставляют. И тогда кажется, что они — не от мира. Требования мирские проходят мимо них. И когда условные законы времен, законы государств и народов восстают на этих людей, человечество становится свидетелем великой борьбы правды с самою собой. Правда в своем законном, конкретном объективно-историческом воплощении сталкивается с правдой в ее чистом, отвлеченном, абсолютном выражении.
Люди, предвосхитившие последнее откровение правды и нашедшие в себе силу жить сообразно ему, такие люди, конечно, должны быть названы нравственно гениальными или святыми. Они морально пленяют и очаровывают, они иногда вносят благодетельные потрясения в жизнь человечества, разрывая связь времен. Они оплодотворяют мир, делая его богаче, ярче, углубленнее. Но побеждают его все-таки не они: их святость узка при всем ее величии, при всей ее необыкновенной красоте. Они не чувствуют правды относительного, правды обусловленного, и глубоко грешат перед ней (sanctus error — невинное заблуждение — лат.). Их трагедия в том, что всю полноту верховного совершенства они пытаются целиком перенести в несовершенную обстановку земли. Побеждает мир идеализм конкретный, целостный, сочетающий в себе и стремление к безусловной правде, и сознание того, что эта правда лишь на небе живет.
Но для нас, русских, все же особенно близок, понятен Толстой даже и в великом ослеплении своем, открывшемся ему солнцем. Именно для России бесконечно характерны этот суровый «максимализм», эта любовь к предельным ценностям, к безусловной, последней правде. «Все мы любим по краям и пропастям блуждать» — говорил Крижанич, наш первый славянофил. Гений Толстого живет в душе его родной страны, и она — в нем. Среди трезвых народов всемирной пещеры Россия опалена, опьянена лучами далекого солнца, по своему воспринятого ею. Недаром же превратилась она ныне в чистый факел мира, пламя которого устремляется в безбрежную высь. Она познала на себе, в потрясающих страданиях своих, в своих огненных муках горения, весь ужас своей любви, ее Немезиду, — но ведь сердцу не прикажешь…
Социальная философия Толстого — «великий грех», но это — грех праведника. Религиозный анархизм его — великое заблуждение, но это — заблуждение гения, живущего истиной.
И если грех и заблуждение его — грех и заблуждение России, то и праведность его и гений его — русская святость и русский гений.
Пестель [270]
(К столетию 14 декабря)
…Это было любопытное время. Царства шатались. Перевороты сменялись переворотами. Европейские языки пребывали в смешении. Витал над Европой саркастический смех Вольтера. Звучали магические формулы Руссо. Мерещились призраки Робеспьера, Сен-Жюста. Еще не улеглась страшная тень Императора…
Вольнодумство пробиралось подчас даже и в очень благородные мозги. Шатобриан рассказывает, как одна его знакомая, большая парижская аристократка, читая в газете о падении тронов, невозмутимо промолвила:
— Положительно, напала какая-то эпизоотия на этих коронованных бестий…
…В это время в далеком холодном Петербурге Магницкий мрачно докладывал царю об опасностях, свойственных дурной, греховной эпохе.
Европу охватил растлевающий дух, который грозит проникнуть и в Россию, — утверждал он. — Это тот самый дух, который скрывался у Иосифа II под личиной филантропии, у Фридриха, энциклопедистов — под скромным плащом философизма; в царствование якобинства — под красной шапкой свободы; у Бонапарта — под трехцветным пером консула, и, наконец, в короне императорской. «Этот дух с трактатами философии и хартией конституции в руке поставил престол свой на Западе и хочет быть равным Богу».
…А молодые гвардейские офицеры, восстановив в Париже легитимную монархию, возвращались домой в Петербург под гипнозом духа укрощенной ими революции, опьяненные воздухом свободы. Кружились головы. Воспламенялись сердца от отечественных несовершенств. Жадно следили за появлением то там, то здесь новых представительных учреждений. Друзья, встречаясь, спрашивали друг друга:
— Ну, что, нет ли еще какой-нибудь свежей конституции?..
Пестель впоследствии в следующих словах изображал тогдашние настроения, атмосфера коих породила 14 декабря:
«Происшествия 1812–1815 годов, равно как предшествовавших времен, показали, столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царств уничтоженных, столько новых учрежденных, столько царей изгнанных, столько революций свершенных, столько переворотов произведенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с всевозможностями и удобностями оные производить. К тому же имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сих двух противоположностей. То же самое зрелище представляет и вся Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать. Вот причины, полагаю я, которые породили революционные мысли и правила и укоренили оные в умах».