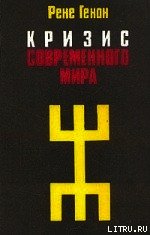Вещи, сокрытые от создания мира - Жирар Рене (читать книги бесплатно полные версии txt) 📗
Ранний Пруст воображает, что эта самодостаточность где-то существует и что он скоро ею овладеет, он не перестает грезить о миге этой победы и представлять ее себе так, словно уже ее достиг. Желание продает шкуру еще не убитого жертвенного медведя!
Р. Ж.: Поздний Пруст знает, что нарциссизма как такового не существует; он знает, что для того, чтобы изобразить желание убедительно, его нужно представить вне ложи Германтов как неспособное туда проникнуть. Желание не должно пытаться внушить нам, будто оно управляет ситуацией. Его интересуют лишь те ситуации, в которых управляют им самим. Повторяю, речь идет не об объективной ситуации, а о такой, в которой желание старается всегда устроиться само.
Конечно, очень легко признать достоверность того, что я говорю в абстракции, просто приложив это к другим. Гораздо сложнее уловить те области, в которых каждый из нас действует немного наподобие Жана Сантея, и демистифицировать свои ressentiments, а не только чужие, стараясь уловить то, что скрывается за нашей демистификаторской страстью.
Достигнуть этого уровня, даже частичным и ограниченным образом, - не такое простое дело. Конечно же, это не такое дело, которое предназначено лишь для великих писателей. У меня даже складывается впечатление, что у писателей такое происходит не столь часто, как у остальных людей. Я ничуть не впадаю в фетишизацию литературных произведений. Я лишь говорю, что люди с таким опытом, судя по всему, редко встречаются, и если писатели обретают такой опыт чаще, чем кажется, то, как правило, это случается, наверное, слишком поздно, чтобы использовать что-то из него для своих собственно литературных планов. С другой стороны, в некоторых случаях, вместо того чтобы вылиться в выдающуюся литературную форму, этот опыт просто-напросто отвращает людей от литературного труда; он обычно связан с испытаниями, которым желание подвергает нас, но суровость испытаний сама по себе вовсе не гарантирует того, что этот опыт проявится.
Г. Л.: При мысли, что такой опыт реально существует и что он похож на то, что всегда называли религиозным опытом, большинство наших современников приходят в ярость. В этом есть что-то невыносимое для ума, что-то, разумеется, связанное с той почти всеобщей враждебностью, объектом которой давно сделалось иудео-христианство.
Р. Ж.: Я понимаю эту враждебность не только потому, что обсуждаемый нами опыт может становиться поводом для бесстыдных подделок, но и потому, что только что мною описанный принцип структурного смещения может вновь возникать в самых разнообразных обстоятельствах и относиться к весьма различным уровням. Современное сознание настроено против любой формы посвящения и обращения из-за своего отказа от всяких, отныне «лицемерных» в евангельском смысле, разграничений между законным и незаконным насилием. Сам по себе этот отказ законен, даже похвален, но он остается в рамках системы жертвоприношения, так как не принимает в расчет историю. Отныне в жертву приносится само жертвоприношение; роль козла отпущения теперь играет вся культура как таковая и наша, иудео-христианская, в особенности. Мы стремимся очистить себя от всякого соучастия в насилии, из которого вышли. И самим этим стремлением соучастие увековечивается. Мы все говорим· «Если бы мы жили во времена наших отцов, мы не были бы с ними заодно в том, чтобы проливать кровь художников и философов».
Отныне жертвоприношение увековечивается в тех самых жестах, которые имеют целью его упразднить, в этом переполняющем всех людей возмущении но поводу продолжения любых изгнаний, угнетений и преследований, особенно если этот скандал увековечивается совсем рядом с ними и во имя иудео-христианства. Сбывается динамизм иудео-христианского откровения. Но часто он сбывается в духе ненависти и насилия, и именно таков последний виток его блужданий. Доказательство этого в том, что он игнорирует сам иудео-христианский текст; он старается стереть саму память о нем и радуется в наши дни, считая, что почти уже это сделал.
В действительности никакой чисто интеллектуальный демарш, никакой опыт философского типа никогда не сможет обеспечить индивиду даже самой маленькой победы над миметическим желанием и страстью к жертвоприношению; он не приведет ни к чему, кроме смещений и феноменов замены, которые, возможно, создадут у индивида впечатление подобной победы. Для прогресса, даже минимального, нужен в своем личном опыте триумф над своим неведением о механизмах жертвоприношения, а этот триумф, чтобы не остаться мертвой буквой, должен повлечь за собой крушение или хотя бы расшатывание всего того, что основано на этом незнании наших интердивидуальных отношений и, следовательно, всего того, что мы можем назвать нашим «Я», нашей «личностью», нашим «темпераментом» и т.д. Поэтому так редко встречаются великие шедевры. Хотя все они втайне родственны, по крайней мере в литературе и в «науках о человеке», им, как правило, необходимо время, чтобы заставить себя принять, чтобы исчерпать мифологические вариации, доминировавшие в момент их сотворения, все их кажущиеся заблуждения и все то, что их современники считают дорогой победой над ошибками предков, одержанной неоспоримыми мэтрами, «решающим» (хотя и скоро забывающимся) «завоеванием» своей эпохи.
Иными словами, этот опыт, каким бы ни было его содержание, всегда будет принимать форму великих религиозных опытов, в конечном итоге совпадающих, какой бы ни была формирующая их религия. Этот опыт может вписываться в свойственную примитивным религиозным институтам систему жертвоприношений, и тогда он составляет то, что называют «инициацией». Тут речь всегда идет о том, чтобы найти выход из миметического желания и из повторяющихся кризисов, о том, чтобы избежать насилия двойников и иллюзорного усиления субъективного различия и, благодаря некоему отождествлению с божеством и прежде всего с его посредничеством, достигнуть налаженного порядка, который всегда будет характеризоваться меньшей степенью насилия, даже если и будет допускать на данной стадии некоторые формы насильственного жертвоприношения.
В великих восточных религиях также обнаруживается подобный опыт, но там его цель - заставить индивида полностью уйти от мира и от циклов насилия при абсолютном отказе от всяких мирских деяний, в своего рода «смерть заживо».
Ж.-М.У.: Если я верно понял вас, не может быть в наше время реального знания о миметическом желании и механизмах жертвоприношения без некоторого подрыва всего того, что в каждом из нас все еще выстраивает или стремится выстраивать себя в связи с этим самым желанием и этими самыми механизмами. Это означает, что знание, о котором мы толкуем с самого начала нашего диалога, даже если не отказывать ему в «научности», по-настоящему достижимо лишь посредством опыта, сравнимого с тем, что всегда называлось религиозным обращением.
Р Ж : Это не так странно, как кажется. Даже в сфере природы, не ставящей прогрессу познания таких препятствий, какие ставит ему человек, те, кто утверждает решительные метаморфозы и пере ход от одной психической вселенной к другой, признают элемент, который позднейшие наблюдатели, не умея понять его природу и причину, как правило, называют «мистическим».
Удивительнее всего то, что во вселенной, в которой мы живем, и вследствие того, что иудео-христианский текст разоблачает фундаментальные механизмы всякого культурного порядка процесс обращения, оставаясь похожим по своей форме и по некоторым элементам своего символизма на обращение в старых религиях, неизбежно должен влечь за собой все более радикальные последствия в отношении познания, во-первых, природы, во-вторых - культуры.
Ж.-М.У.: Достижения современного познания у всех, кто сделал в них мощный вклад, почти всегда носят характер в высшей степени религиозный - или антирелигиозный, что сводится к одному и тому же, как нам известно, в рамках неведения о механизмах жертвоприношения.
В итоге все подлинно плодотворные опыты в нашем обществе, все главные открытия во всех областях: в науках о природе, в литературе, в науках о человеке - всегда принимали неизменную форму радикального изменения, изменения через религиозное обращение, потому что их предпосылкой было всегда некое освобождение от миметического желания и от тех иллюзий, которые оно навязывает нам.