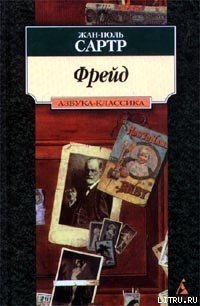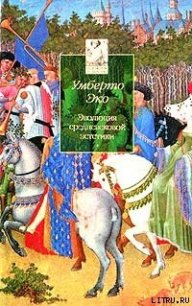Приготовительная школа эстетики - Рихтер Жан-Поль (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Теперь глаже будет переход наш от мистицизма к последнему,
глаже прежних переходов, где, например, от ненависти (в третьем) мы сразу же перескакивали к любви. Как мизантроп полюбит, не краснея?.. Когда человек от Платона и древних трагических поэтов прямо переходит к нашим дням и оказывается в роще Пафоса новых поэтастов, где на голых ветвях нет ни одного листочка и где все видно насквозь, так он решает, что не из Греции попал в Грецию, а из Греции на Камчатку, где стрелы Амура окунают в г.....
Самый сильный аргумент против того, чтобы расписывать сцены чувственной любви, диктуется не нравственностью, а поэтикой. Вообще говоря, есть два чувства, которые не могут доставить нам чистого и свободного художественного наслаждения, — это омерзение и чувственная любовь, и вот почему не доставляют они нам наслаждения: они сходят с полотна и погружаются в душу зрителя, они созерцание обращают в страдание. Правда, когда говорят о чувственной любви, то предполагают что зритель испытывает любовь противоположного свойства — но тогда зрителя нужно наделить сперва жидкой косицей из серебрящихся волосков и придать ему солидный возраст — лет восемьдесят. Ведь даже Шоппиус (см Бейля) вынужден был отказаться от рыбы и мяса, дурно ел (питался одним сыром и пр.), спал на жестком, и все для того, чтобы остаться тем, чем он был, — это при том, что искал он в классиках не столько наслаждений, сколько оборотов речи; чего же ждать от любителей поэзии, которые одновременно читают и едят, не ждать ли от них самого худшего? — ведь даже в Латраппе, где кормят не лучшим образом, Дерансе вынужден был запретить чтение одной из книг Библии, именно историю Сусанны, а древние раввины запрещали читать Песнь Песней прежде достижения тридцатилетнего возраста. Для чего же живопись, если она прерывает полет души, оскорбляет нежные души и ублажает лишь дурные? Разве художнику приятно содеяться низким сводником и видеть, какое позорное участие проявляют к его сочинениям люди дурные? Но, боюсь, причина, почему так много развелось у нас наглых и откровенных выставок сокрытого и почему так много народилось наглых их покровителей, — они скорее запретят искусству подкупать нас нравственным содержанием, чем безнравственным, — причина этого заключена в двух видах того, что легко дается: во-первых, легко дается рисовать как бы скрытые за занавесью и потому малоизвестные ситуации, а во-вторых, нетрудно подкупать нас такими картинами в ущерб искусству, так что виноваты, получается, не художественные соображения, а отсутствие таковых. Самые великие поэты — самые целомудренные; из наших назову Клопштока и Гердера Шиллера и Гете, — три грации в «Тассо» «Ифигении» и «Евгении» {1} Гете вполне и без всякого смущения могли бы обходиться без своих одежд, как бы наброшенных на них Сократом, и, напротив, могли бы отдать эти покрывала некоторым героям этого же поэта с их отнюдь не сладострастным, но поэтическим цинизмом. А какой народ испокон века создавал самые распутные поэмы? Конечно же, тот, у которого другие поэмы, можно сказать, совсем не складываются, — народ галлов, ведь и Вольтер в «Орлеанской деве» поэтичнее, чем в «Генриаде»; в Риме поэзии было меньше, а распутства больше, чем в Афинах, но и в Риме пакость родилась лишь в мрачных пропастях падшей империи — империи поэтической, нравственной и Римской. Дерзость безнравственного можно сравнить с мышьяковым возгоном: он придает блеск краскам, но в конце концов разъедает ткань и медленно отравляет того, кто ее носит
Совсем иное — цинизм юмора и остроумия куда более приемлемый. Ведь в первом случае цинизм серьезной поэзии, спускаясь по пологим склонам плоскогорья из длинной цепочки образов, приводит наконец к водопаду, с которого начинает течь бурно и неукротимо, — но такой роскошной цепи образов не встретить у греков, — а во втором случае юмор и остроумие как раз превращают такой образ просто в средство и, разлагая его на пропорции и отношения, отнимают у фантазии; поэтому комический цинизм сильнее сказывается у целомудренных наций, как-то: нации древние и британцы, — у них пышная мелодия образов звучит слабее; то и другое — совсем наоборот у испорченных народов. Аристофан, Рабле или Свифт — целомудренны, как учебник анатомии. Нечто иное, и куда хуже, те пародийные стихотворения и поэмы, — например, поэмы французские, поэмы, написанные людьми света, и некоторые у Виланда; эти поэмы, порхая между крайностями серьезного и смешного, осмеивают лишь дух, уничтожая его, и серьезно пишут лишь тело, творя его; ведь если у Гомера и даже у Гете в его сверхдифирамбической «Коринфской невесте» серьезное достоинство высшей красоты и чувства как бы окутывает своим блеском пышные формы образа и красота преображает своей внутренней силой тяжесть вещества, то французский жанр — кентавр наоборот: человек побежден, зверь освобожден, над всем благородным смеются, все достойное уничтожают, за все чувственное энергично вступаются, все чувственное старательно выдвигают вперед, и человек становится мартышкой орангутанга, так что сам жанр двусмыслен — и нравственно и поэтически.
С чувством стыда, то есть я хочу сказать, стыдясь своего стыда, я выражу свои сомнения отчасти морального, отчасти поэтического толка: сомневаюсь в необходимости выставлять дом терпимости напоказ, к храму нынешних муз, возведенному из обломков колонн и прочих развалин древнего храма Бесстыдства, что построен греками, подхожу, держа на плечах иудейские скрижали закона, — не затем, чтобы воздвигнуть их здесь, а затем, чтобы читать их вслух.
Я отнюдь не настаиваю на том, чтобы возноситься на небо вместо того, чтобы катиться к черту — который успел войти в нас и которому мы, на мой взгляд, обязаны отдать визит; но вот что главное, — утверждают {2}, что вся земля и весь мир — в полном распоряжении поэта, коль скоро поэт — это поэт, и что они (земля и мир) только и ждут, что он будет по своему усмотрению срисовывать их, не беспокоясь ни о времени, ни о нравах, — однако спросим, где же этот вольный и счастливый человек? Едва ли существует он в природе, еще не попался нам на глаза ни один такой греческий или любой другой поэт, у которого не было бы ни желудка, ни отечества, ни обычаев, ни времени, — как и у его почитателей, — но у всякого были и родственники, и кишки, и будни, и укромные уголки, так что всякий мог обрести и обретал свой индивидуальный облик (чего требуют от него философы). И только бог мог бы стать поэтом творящим, не считаясь решительно ни с кем, кроме себя; так он и творил, и всякий поэт — это крошечная метонимия бога; остальные люди — рифмы и ассонансы, а столетие — юбилейный стих.
Итак, ни один поэт до сих пор еще не обходился без времени и пространства, то есть без века и отечества, но всякий жил в них. Еще и потому поступал так каждый поэт, что вскоре замечал, что и его слушатели и читатели, точно так же как и он сам, рождаются и умирают. И это уже весьма неплохое объяснение того, почему греческие поэты, невзирая на всю свою божественно-поэтическую вольность, всегда чтили отеческие нравы, поэтически творя, и хотя бы потому никогда не подрывали нравы своим поэтическим творчеством, что творили лишь благодаря им. Боже, каким варварством показалась бы им попытка подкупать — не отвращать! — читателя картинами чужеземных варварских нравов, — словно зверь, попирать священную трепетность любви к отчизне. А если бы нечто подобное и сделал грек, тем более на сцене, как пытается нынешний немец Шиллер или Шлегель, — тонко чувствующий народ, не дожидаясь судей вкуса, судил бы как судья нравов. Ибо каждый народ чтил свои обычаи — и хор нравственного сердца, — и только мы, немцы, пытаемся распространить космополитизм чувства на нравы и обычаи, хотя нрав, распространенный на целый свет, есть отрицание в себе, потому что нрав и обычай по природе ограничены. Конечно, поэзия может чувствовать себя свободной, если вольность нравов налицо, и пусть танцует перед обнаженными ложами нагая муза трагедии; но пристало ли деве снимать покровы с женщины и супруги? Не бывает абсолютного стыда и стыдливости, стыд относителен — соразмерен с фантазией, не с действительностью, обнажить ножку в Испании и открыть лицо на Востоке — все равно что у нас раздеться донага; какая же земля и какой фиговый листок будут мерой обнаженности? Кто не согласен с абсолютной наготой, тот вынужден чтить и самое длинное покрывало, а не укорачивать его, коль скоро длину предписывает обычай. Если стыдливость — священное чувство, данное лишь человеку, нужно чтить и щадить чувство, в каком бы облачении ни представало оно перед нами.