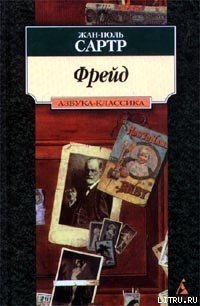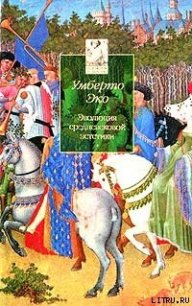Приготовительная школа эстетики - Рихтер Жан-Поль (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Удалившимся господам, для которых как для японцев «большие глаза» — бранное слово, такое же слово — «слезы», — этим господам не повредило бы, успей я высказать им еще одно соображение: недостаток любви вреден не только для сердца, но для самой поэзии (над этим мало задумываются). Неописуем ущерб который поэт наносит творениям своего духа, если нет в нем сильного чувства. Будь он бесчувственным отцом живого ребенка, — как опишет он настоящую любовь отца, если прежде того не ощущал ее к живому младенцу в колыбели? Подумал ли автор, позабывший о подлинном чувстве и отставивший его на задний план, подумал ли он, что опишет это чувство тем слабее? Ибо поэтическое направление и форма без материала души — все равно что фонарь без фитиля. Есть немало нищих, и прикрывали они свою наготу тем, что обращаются в своих поэмах и картинах к людям, которые уже раньше были изображены другими, — например, к матери, но только к изображенной Рафаэлем, к актрисе, но только играющей роль в спектакле.
Если современная поэзия столь невещественна и так пренебрегает материалом, то она все более начинает походить на музыку и струится без смысла, поэтические крылья поднимают ветер, вместо того чтобы на крыльях ветра подниматься к небу, так что, наконец, поэзия бросает образы и сам язык и целиком перебирается в область звучаний, с ассонансами впереди, с рифмами позади, подобно музыкальным пьесам, что начинаются с трезвучия и заканчиваются на том же трезвучии. Кому совсем нечего сказать, тот танцует и звенит сонетами, — так умные трактирщики продают кислое пиво под звуки музыки и пляски Самым счастливым годом моей жизни будет год, в котором за все положенные двенадцать месяцев я не услышу ни одного сонета, — вот как, куда ни сунься, преследуют нас пегасы с колокольцами и с седоками, у которых подолы и колпаки тоже издают звон Клопшток на время притоптал ключи рифм, но теперь они забили из земли еще сильней и веселей. Находясь здесь, на острове, я ни минуты не могу быть уверен, что, пока я читаю, там, на материке, не придумают целые иронические и дидактические поэмы и трагедии сплошь состоящие из одних сонетов, — в добавление к полифемским жалобам любви (sonetti polifemici), к сонетам бурлескным, пасторальным, пастырским и духовным (s. spirituali), ко всем, какие только были в употреблении в Италии. Если верна приятная гипотеза Боутервека, что рифма вышла из эхо, раздававшегося в тевтонских лесах, то современный недостаток древесины позволял бы надеяться на многое, но мне кажется, что пустота только способствует громкому эхо. Люди, в которых нет ни вдохновения, ни сил, люди, у которых нет даже языка, чтобы говорить на нем, с великим трудом вырывают у этого самого языка вымученное иноземное стихотворение и ставят эту форму на стол перед нами, делая вид, будто она полна поэзии: так несчастные монахи-картезианцы, которым запрещено есть мясо, а следовательно, и колбасы, пытаются обмануть самих себя, наполняя рыбой свиные кишки, а при этом едят их и громко разговаривают о колбасах. Как разительно отличаются от старых сонетов, например, от сонетов Грифиуса — в младенческую пору немецкого языка сонеты текли легко, и чисто, и гладко, — как странно отличаются от них наши новые сонеты, язык которых, многоопытный, заикается, и заплетается, и спотыкается и которым, антитринитариям {3} трех Граций, приходится прибегать ко всевозможным языковым и мыслительным вольностям только для того, чтобы сказать: «Пою!» Правда, в более светлые минуты мне даже начинает казаться, что при совершенно необычайной беспомощности в обращении со стихом и с языком и при большой бедности поэтического пламени и красок сонет — единственное средство и прием и что он вполне неизбежен для такой поэзии. К великой радости своей, хотя и в метафорическом смысле, я утвердился в этом мнении, прочитав у Рабле, что в некоторых женских монастырях pet называли не иначе, как sonnet [256]; поэтому мы по-прежнему можем именовать «сонетами» упомянутые выше стихотворения, прибегая к эвфемизму (греческой кротости именования) и на том условии, что никогда не будем забывать о рифмующемся с ним слове.
С {4} тех пор как лектор в первый раз прочитал этот курс лекций, поэтасты за отсутствием материала стремительно перепробовали все суррогаты любви и поэзии и наконец подыскали для себя самое лучшее, что только могли найти, — мистицизм, и вот этот мистицизм, сам по себе чудо, творит у них чудеса и способен на очень многое. Но только этот новый литераторский мистицизм нужно отличать от старого действенного — какой был присущ Шпенеру, Фенелону, Таулеру, Лопесу, маркизу Ренти, мадам Гюйон и т. д., — нужно отличать для того, чтобы не слишком недооценить первый. Ибо мистическое писательство далеко от мистической жизни и мысли, — если раньше поэзия переходила в прозу и историю и оседала в них, то теперь этот писательский мистицизм, наоборот, просто возвышет историю былой деятельно-мистической жизни и прозу былого мистицизма до уровня новой литературно-мистической жизни и прозы. Прежде религиозные мистики были священными пламенными душами; словно летучие огни, отрывались они, умирая [257], от тяжелой земной основы, но поэтами они были простыми, скорее, немотствовали в поэзии, ибо к поэзии и к вершинам Парнаса они лишь ради отдохновения спускались после полета в поднебесье, и не были окружены священным ореолом их кроткие сердца, но священный жар раскалял их изнутри.
А для чего нужен этот новый мистицизм в искусстве, как не для того, чтобы вознаграждать и успокаивать любящую душу прекрасной иллюзией поэзии и творчества, — если мистика души и сердца безвозвратно утрачена? И мы тем более извратили бы новоизобретенный мистицизм, если бы заключили его в наше тесное сердце, не в просторную голову; мистический поэт — это (только в более благородном смысле!) тот самый скворец, который жил в Париже у торговки фаянсом и от начала до конца читал на латыни «Отче наш», только что не вовремя вставлял между семью прошениями бранные слова, да после (или до) четвертого прошения {5} нередко требовал корма, чтобы уже не поминать все то иное, в чем он отнюдь не сделался лучшим христианином оттого, что упорно молился. И можно даже без малейшего ущерба для поэтического мистицизма утверждать, что как бесы убрались в гергесинских свиней, так и святых этой мистической веры следует изгнать в свиней, но только свинья не может скомпрометировать себя нравственно, черт ли войдет в нее или дух святой.
Мистика — святая святых романтического искусства, незримый надир зримого зенита. Но если бессердечие и невещественность нынешней поэзии неспособны породить ничего романтического, то мистика оказывается очень кстати, — вместо вечерних бабочек романтического полумрака лучше выпустить ночных бабочек мистики, другими словами, лучше погрузиться в туманные миражи мистицизма, чем нырять в океан романтизма за жемчужными раковинами. Какое счастливое совпадение — именно теперь философия абсолютного разверзла свои пропасти, бездны, бездонности, а мистическим крыльям все это и требуется, чтобы был простор для полета. Когда сердце не заполняет вселенной и мироздания, не одушевляет и не одухотворяет их, то голова начинает требовать себе такую долю бытия, что даже под бога подкладывают фольгу... Теперь же благодаря философии абсолюта, благодаря мистицизму у нас, в наших руках, предостаточно всего — есть и пропасть вверху, есть и бездна внизу, а в дополнение к верхнему есть еще обратный, нижний небосвод, и мы вглядываемся в них, повиснув в пустоте без опоры, — шар земной, шар мировой давно уж оттолкнули мы ногами, и он улетел за небеса, — пора кружиться мистически, возносясь и ниспускаясь, и парить на месте, прочь улетая и уносясь (ибо в опустошенной — обестелесненной голубизне эфирной нет твердых тел небесных, чтоб быть покою и движению), короче, пора быть чем угодно, всем, даже Ничем.